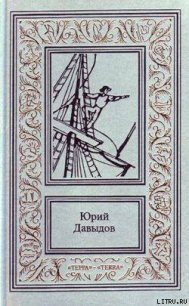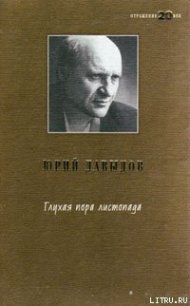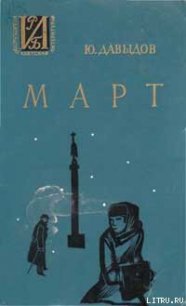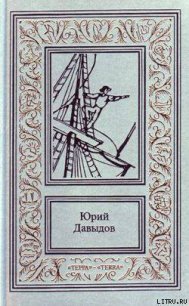Соломенная Сторожка (Две связки писем) - Давыдов Юрий Владимирович (читать полную версию книги .TXT) 📗
Он не притронулся к бумагам – долго сидел неподвижно, опершись локтями на стол и обхватив голову руками.
Устойчивый и строгий ревнитель законов, Александр Никонович ни разу не поскользнулся в своей контрольно-финансовой службе, но он очень хорошо сознавал, что никакой законностью не избыть несчастья, причиненного тайной полицией, и потому, как всякий россиянин, единственную надежду возлагал на протекцию.
С Властовым, статским генералом, считались не только в Тифлисе, в окружении великого князя, наместника Кавказа, которому подчинялась Ставропольская губерния, но и в Петербурге. Административная гибкость Властова припрягла к имперской колеснице Мингрелию. Административная твердость Властова возместила казне недоимки в сотни тысяч. Можно было подтрунивать над его увлечением тонкостями богословия, нельзя было не признавать его одним из лучших в России губернаторов.
Направляясь к статскому генералу, очень его ценившему, Александр Никонович, конечно, понимал, что Германа, как чиновника для особых поручений, не посмели бы арестовать без ведома губернатора. Это обстоятельство смущало Александра Никоновича. Оставалось уповать на какое-то заблуждение: господа из Третьего отделения горазды возводить напраслину.
Губернатор Властов, хрупкая, изящная внешность которого являла странное несоответствие с явственно ощутимой душевной энергией, вышел навстречу Александру Никоновичу и, пожимая руку давнему сослуживцу, участливо осведомился, каково здравие Софии Ивановны. Он не только, что называется, по-человечески сочувствовал горю Лопатиных, но и сам был искренне огорчен арестом молодого человека.
Сравнительно недавно полковник, представлявший в губернии Кавказский жандармский округ, имел с действительным статским советником конфиденциальный разговор, рекомендуя приискать ссыльному Лопатину какую-либо иную должность, не столь близкую к начальнику губернии. При этом полковник как бы вскользь упомянул о том, что некое важное лицо в Третьем отделении говаривало: этот Лопатин когда-нибудь доскачется до того, что его запрут в равелине. Властов, однако, не внял полковнику. Губернатор не усматривал поводов к неудовольствию своим чиновником для особых поручений. Напротив, находил в нем отличного помощника, умеющего вникнуть в сложные, путаные, противоречивые, неясные вопросы и найти им разумное решение. Жандармский полковник на своем не настаивал; сказал то, что считал должным сказать, а так-то, что ж, – полковник вовсе не желал «крови», хотя и получал сведения о подозрительном поведении молодого Лопатина.
И вот внезапный арест. Внезапный не только потому, что Властов и сейчас был уверен в невиновности своего чиновника, но и потому, что его, начальника губернии, не предварили об этом аресте. Он так напрямик и сказал Александру Никоновичу, прибавив, что не замедлит взять необходимые меры.
Карьеру свою нынешний ставропольский губернатор начинал после смерти императора Николая, после Крымской войны и потому не унаследовал от предшественников пожизненного трепета перед голубым ведомством. Властов полагал, что все в равной степени, независимо от цвета мундира, служат престолу и отечеству, не обретаясь в крепостном состоянии у Третьего отделения. Разумеется, корпус жандармов, высшая полиция – существенная и важная часть государственного механизма, но лишь тогда, когда они не ставят палки в другие колеса этого механизма. Господам, озабоченным безопасностью государства, следовало, согласно закону или хотя бы из вежливости, предварить начальника губернии об аресте его подчиненного. Властов, конечно, понимал, сколь многое изменилось после прискорбной каракозовской истории, однако он знал и то, что в ведомстве графа Шувалова введен правопорядок, запрещающий произвол.
Первым движением было писать немедленно на самый верх – графу Шувалову, шефу жандармов и начальнику Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии.
Перо, готовое к бою, нависло над бумагой.
Властов призадумался. С одной стороны, оно конечно, надо бы адресоваться к его сиятельству Петру Андреевичу… Но, с другой стороны, он, Властов, лучше известен его императорскому высочеству великому князю Михаилу Николаевичу, наместнику Кавказа. Ежели Третье отделение объехало на кривой его, Властова, оно тем самым объехало на кривой и родного брата царствующего монарха. Стало быть, и великий князь должен восчувствовать оскорбление. И, стало быть, он, Властов, как бы передоверит протест великому князю. С одной стороны, это, конечно, некий уход в сторону, но, с другой стороны, эдак к цели ближе.
Перо, готовое к бою, уронило на бумагу фиолетовую слезу.
Властов взял другой лист.
Глубоко оскорблен, писал губернатор, арестом моего чиновника особых поручений Германа Лопатина, обращавшего на себя внимание усердием и блестящими способностями; глубоко обижен недоверием Третьего отделения, не предварившим меня о сделании подлежащих распоряжений; моя многолетняя деятельность не дает кому-либо право обходить меня при исполнении служебных обязанностей…
Написал быстро, без помарок, в порыве праведного негодования. Да, быстро, а вот подписывать… Подписывать медлил. Наконец выставил подпись. Однако бумага еще была без адреса. Его императорскому высочеству? Так-то оно так, да ведь все равно барона Николаи не миновать. Барон доложит, барон и ответит, нет, нельзя миновать Николаи… Итак, не погрешив против совести, поступив как должно, действительный статский советник Властов отправил пакет не в Петербург, а в Тифлис. И не наместнику, а правителю канцелярии при наместнике. И сам этот процесс писания, чтения и перечитывания, подписывания и надписывания, вкладывания в конверт, плавки и приложения золотистой сургучной палочки, – все это словно бы впитало, вобрало в себя губернаторскую обиду, и он ощутил что-то вроде сатисфакции. Он мог теперь прямо взглянуть в глаза почтеннейшему Александру Никоновичу: я сделал все, что в моих силах.
Неделю или полторы спустя губернатор Властов получил ответ барона Николаи. «Изложенный в Вашем письме образ действий Третьего отделения, – писал невозмутимый правитель канцелярии, педантичный барон шведского происхождения и долгой русской службы, – постоянно повторяется, особенно в экстренных случаях, что подтверждается следующим примером: недавно была заарестована в Терской области личность без всякого предварительного извещения не только начальника области, но и самого ГОСУДАРЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НАМЕСТНИКА, так что ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО известилось об этом уже спустя несколько времени совершенно случайным образом».
Вот так-то, брат, сказал себе действительный статский советник, вот так-то, живи и помни. Живи и помни, где живешь.
Арест не столько ошеломил Германа, сколько озадачил: во чужом пиру похмелье? Поди разбери затейников Третьего отделения – присобачат к заговору нечаевской «расправы» да и расправятся. Уж очень оно карьерно: не единицу прихлопнуть, а заговор обнаружить, к рождеству иль к пасхе крестами осыпят.
Нет, лопатинский арест стоял особняком – в Петербурге перехватили одно из его писем и поняли, что ссыльному осточертело сидеть на привязи. А коли так, отчего бы и не укоротить цепь? Ведь и без этого Лопатина забот хватало. Убийство в Петровском-Разумовском как завесу разорвало – дымился котел ведьм, Нечаев варил адскую похлебку. Но сам-то исчез. Зато пособников брали одного за другим. На Мещанской в доме с мезонином обнаружили списки «Народной расправы». И тетрадочку зашифрованную нашли. И уже корпели над нею дешифровщики Третьего отделения, и уже корчилось в «Катехизисе» такое, что хоть святых вон… Не времечко беспечно глядеть и на умыслы Лопатина Германа.
Обер-офицер корпуса жандармов, тот, что наведывался в библиотеку, тот, что произвел обыск и арестование, этот капитан, обходительный и даже снисходительный, отнюдь, как и его начальник, не жаждавший «крови», пожурил за почтовые откровенности и, предъявив письмо, перехваченное в Петербурге, убедительно просил ответить пункт за пунктом в соответствии с вопросительными подчеркиваниями Третьего отделения.