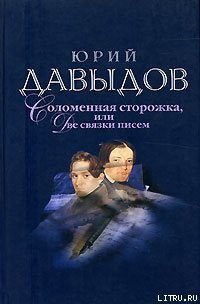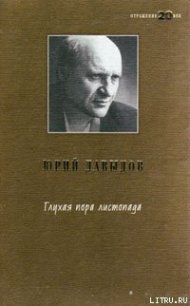Март - Давыдов Юрий Владимирович (полные книги .TXT) 📗
– Ох ты господи, – потупился Клеточников, – без ножа режете. – И полез в карман сюртука.
Занятия кончились. Все стали расходиться. Чиновники простились на Пантелеймоновской улице; никто не заметил, как за Чернышевым, счастливым обладателем «красненькой», увязался долговязый сыщик Филька.
Глава 7 «КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?»
Трактир «Китай» ничем не отличался от других питейных заведений, коих только здесь, за Невской заставой, на Шлиссельбургском тракте, было с чертову дюжину, не считая винных погребов.
Керосиновые лампы точили немощный свет, в нем ходил табачный дым. Столы были уставлены сороковками и пивными бутылками с узкими оплечьями. На венских стульях, кто в обнимку, кто локти по столу раскинув, сидели мастеровые. Гомонили вовсю, но шебарша – на трактирном жаргоне ругань с дракой – еще не заварилась.
– Эй, ребяты, – взывал детинушка в рваной косоворотке, – семянниковские есть? Айдате! Привальную дают!
Те, кто с завода Семянникова, протискивались к столу. Это ведь куда как хорошо – выпить-то на даровщинку. Каждый из них, поступая в завод, давал «привальную»: нельзя без нее, непорядок.
Угощал Тимоха, совсем еще молодой чубатый малый, одетый по нынешнему парадному случаю в пунцовую рубаху, в костюм-тройку, обутый в сапоги с вышитыми голенищами.
– Сделайте милость, братцы, – радостно скалясь, приглашал Тимоха, играя концами пояска. – Сделайте одолжение! Прошу!
Умостились семянниковские. Тимоха плеснул водку в щербатые стаканы.
– Первая колом, – бодро возвестил тот, что в рваной косоворотке.
– Погодь! – остановил его седоватый человек, которого все здесь называли по батюшке, Матвеем Ивановичем. – Куда летишь? Обычай знаешь ай не? Сперва пусть-ка объявит, откудова, понимаешь, родом, где начинал, что после, и все такое, понимаешь, прочее.
Детинушка-зазывала нетерпеливо толкнул Тимоху. Тот с бойкой готовностью отвечал, что родом он, значит, со Смоленщины, работал котельщиком на казенном пароходном, в Кронштадте, а теперь вот желает пожить в главном столичном городе.
– И согласье мастера Аполлонова уже дадено, – закруглил детинушка, поводя носом. – Чего уж там, братцы…
– А сколь ты ему, сукиному сыну, сунул? – не отстал Матвей Иванович.
– Сколь надо, отец. – Тимоха подмигнул. – Сухая ложка рот дерет.
– Вот и есть, – неодобрительно начал Матвей Иванович, но его жалостливо перебила рваная косоворотка:
– Дело делать али разговоры растабаривать?
Кругом рассмеялись.
– Ах, братцы вы мои дорогие, – как присказку выговорил Тимоха все с той же толстогубой радостной улыбкой, – спасибочко за уважение. Первая – колом, вторая – сизым соколом. Дружней, братцы!
И «привальная» началась…
С мороза сперло дыхание. Ух, густо шибало сивухой, жареным луком, подгорелой требухой. И гляди под ноги, но ровен час, скользнешь по рыбьей чешуе, грянешься оземь. Жорж пробрался в угол. Подбежал мальчонка в грязном переднике, с синяком под глазом. Выпалил слитно:
– Чегоизвольте?
Жорж спросил пива, рыбец, горошек.
– Чичас! – И заморыш юркнул у него под локтем.
Плеханову не в диво были дым, чад, горький, брыдкий воздух, эти «привальные» и «отвальные» и эта непременная «шебарша», когда трактирщик посылал за городовым. Да, все это не удивляло Жоржа, но вчера попалась ему в библиотеке статья некоего доктора Гюбнера. Доктор Гюбнер пользовался петербургской «питейной» статистикой: сотни и сотни ежегодно умирали от запоя; одержимые белой горячкой переполняли лечебницы и ночлежки… Мастеровые, мужики, подавшиеся в город на заработки, пили, что называется, с надсады и горя. Однако и в интеллигентной среде «Ивашка Хмельницкий», как с давних пор на Руси именовали запойных, был свой брат. Плеханов знал это не хуже ученого доктора. Встречались ему люди образованные и даже даровитые, для которых пьянство было своего рода подвижничеством, протестом против общественного застоя и косности. Эти спивались с круга принципиально: вот, дескать, вы, канальи, можете дышать в таком смраде, а я не могу и не хочу, и подите вы все прочь… Этих-то, думал Жорж, этих еще можно понять, а поняв, извинить. Но вот искусники по части «рюмашечки» в чиновничьей касте… Сидит эдакий стрюцкий в казенном присутственном месте, держится «в плепорции», перышком черк-черк, «да-с», «нет-с» подсударивает, а с утра алкоголь в бараньем мозгу… (Жорж тыкал вилкой горошек, бледно-зеленые шарики катались по тарелке…) Социологу все может давать материал для совершенно определенных и точных выводов: пьянство, моды, даже фасоны бород.
Он поднял голову, огляделся. Степана не было. Сколько не видались? Полгода, пожалуй, с лета, с июня.
В июне Жорж ездил в Воронеж. Хорошо было очутиться в городе детства. Не детства – отрочества. Мальчиком привез его туда отец, бывший штабс-капитан, и определил в военную гимназию. Подставил для поцелуя колючую щеку, сказал насмешливо: «Смотри мне, не глодай, как дома, книжки, а то мозги высушишь». Тринадцать лет минуло… И вот совсем недавно опять увидел Воронеж. Оттуда рукой подать до деревни Гудаловки, до речки Семеновки. А в Гудаловке – дом, сестры. И мама. Милая мама всегда хорошо понимала своего Жоржа. А он гордился, да и мама тоже, он гордился ее близким родством с Белинским… Гудаловка была рядом. Но и думать не приходилось о свидании. Думать пришлось о другом. Совсем о другом. В те июньские дни – обыватели, как и встарь, бегали в цирк, а на пыльном Кадетском плацу духовой оркестр гремел попурри из опереток Оффенбаха, – в те дни все, в сущности, и определилось. Старые товарищи по «Земле и воле» съехались решать вопрос о политическом терроре. Михайлов с друзьями взял верх. И все-таки в те июньские дни не верилось, не верилось сердцем, что вот и конец «Земле и воле». А теперь… теперь это уж дело прошлое: есть «Народная воля» и есть «Черный передел», малочисленная, увы, группа.
– Здравствуй, Георгий!
– А! Ну наконец! Здравствуй, Степан. Садись.
Он любил Халтурина. Всей своей сутью отличался Степан от иванов-терпельников, которые так умиляли иных интеллигентов. Насмотрелся-таки Жорж на мужиков-каратаевых. Насмотрелся! Еще когда с Михайловым «ходил в народ». Ему претило их смирение… Некрасов писал: «вынесет все, что господь ни пошлет…» А иные интеллигенты, черт их дери, умилялись: вот, мол, это самое «вынесет все» и позволяет меньшому брату, русскому мужичку, выстоять под любым игом, начиная с монгольского. Черт бы побрал тех, кто, хоть и с последней искренностью, славит терпельников, на которых, дескать, Русь стоит, которыми, мол, Русь жива. Да и не славят они, вопреки самим себе, не славят они простолюдина – унижают в нем человека. Ибо чем, господа, отличается человек от животного? Способностью мыслить и потребностью бунта. Вот он – Степан Халтурин, столяр-краснодеревец, – этот не из терпельников, хоть и ошибается, полагая главной силой фабричных и заводских. Ошибается, но уж зато прирожденный мятежник, недаром мастеровые души в нем не чают. И уж если Степана залучить в «Черный передел»…
Желтыми пальцами постукивал Халтурин по граненому стакану с пивом, постукивал, слушал Георгия, изредка посматривая на него чуть исподлобья. А у Плеханова переламывалась черная татарская бровь, вызывающе вздергивалась эспаньолка. Плеханов был бледен, и горячо, быстро говорил он о несогласии с террористами и о том, что только ослы могут строить расчеты на кончике кинжала, на жестянке с динамитом.
– А я с ними, Георгий, – вдруг сказал Халтурин и усмехнулся. – С ослами.
Плеханов как споткнулся:
– Ты?
Халтурин улыбался своей странной улыбкой, вместе застенчивой и решительной. То, что он ответил, Жорж уже слышал не однажды: дезорганизация правительства, конституция, а там развернемся вовсю, дальше пойдем…
– Ну опять! Опять! – морщился Жорж, проводя ладонью по темным, коротко остриженным волосам.
– А как же? Они правы: иного покамест нет. Вот гляди – было дело в Москве. Да? А здесь какую песню затянул наш брат? Сразу головы-то подняли: погоди, говорят, такую штурму сделаем.