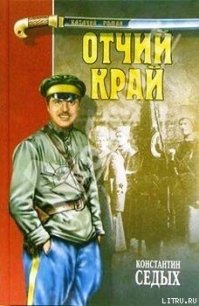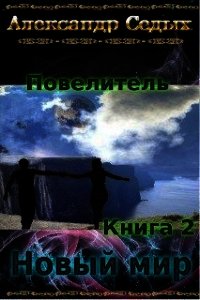Даурия - Седых Константин Федорович (серии книг читать бесплатно TXT) 📗
— А ну, шагай сюда! — скомандовал ему партизан на белой лошади, крутившейся у ворот.
Никула подошел и увидел молодое, искаженное злобой лицо и услыхал все тот же резкий, властный голос:
— Кто такой будешь?
— Никула Лопатин.
— Атаман, что ли?
— Что ты, паря, что ты! Сроду атаманом не был. Никула я — здешний житель.
— Что дурачком прикидываешься? По одежде вижу, что из богачей ты, из недорезанных.
Никула побелел и, не зная, что сказать, с минуту колебался. Но, видя, что партизан вскинул на него винтовку, закричал:
— Да ты, братец, по одеже-то не суди! Одежа эта с чужих плеч. Мне ее на сохранение дали.
— Кто дал? Купцы? Офицеры?
— Нет. Свои дали, соседи.
— Вот оно что! — нараспев протянул партизан и вдруг заорал таким свирепым голосом, что у Никулы екнула селезенка: — А ну, сымай, гад, сапоги и штаны сымай! Да моли Бога, что мне рук об тебя марать неохота.
Стоя поочередно то на одной, то на другой ноге, Никула быстро разделся. Партизан взял сапоги и шаровары, запихал их в переметные сумы седла и, пообещав еще вернуться, ускакал вслед за другими.
С лица Никулы медленно сошла мертвенная белизна. Он удрученно поскреб в затылке и поплелся в избу. Лукерья растапливала печку. Он тяжело плюхнулся на лавку, собрался с силами, пожаловался:
— А ведь меня, баба, раздели.
— Кто раздел?
— Да ведь партизаны пришли. Увидел меня один черт в ограде и обобрал как липку. Ты, говорит, кто такой будешь? Атаман? Офицер?.. Ведь это, баба, погибель наша. Вернуться он пообещал.
Лукерья замахнулась на него в сердцах ухватом, но тут же бросила ухват на залавок и запричитала.
— Да ты не вой, баба, чего уж. Выть-то теперь поздно, раз так получилось. Давай лучше все это барахло, будь оно проклято, прятать.
Никула схватил первый попавшийся узел и потащил его из избы на гумно. Следом за ним явилась туда с охапкой шуб и платьев Лукерья. Они наскоро раскидали соломенный омет, успели многое спрятать, пока совсем не рассвело.
Только они кое-как поуправились, как в поселок вступили главные силы партизан. Подгорная улица наполнилась цоканьем копыт, звоном оружия, глухим говором, криками команды. По четыре человека в ряд, плотно сомкнутыми колоннами шли по улице эскадрон за эскадроном. Увидев их, Никула снял шапку, перекрестился. Потом любопытство в нем взяло верх над страхом, и он подошел к своим воротам. Стараясь не быть замеченным, стал смотреть на суровых людей с красными ленточками на папахах и фуражках, с бантами на гимнастерках, шинелях, тужурках, дождевиках.
— Здорово, Никула! — вдруг окликнул его знакомый голос из одной колонны. Никула обернулся на голос и узнал Федота Муратова.
— Здорово, Федот, здоровенько! — обрадованно отозвался он и смело вышел за ворота. Федот покинул строй, подъехал к нему, и Никула долго жал снисходительно протянутую ему Федотову руку в черной кожаной перчатке с раструбами.
— Ну, как вы тут? Ждали нас?
— Ждали, паря, ждали! Я пуще всех дожидался. Хотели меня за это наши дружинники стукнуть, да спрятался я от них… А ты мне, Федот, скажи: сосед мой, Ромаха Улыбин, случайно не с вами?
— С нами, с нами. И Семен Забережный с нами, и Лукашка Ивачев. Наших в партизанах семнадцать человек.
— Ну, слава Богу!
— Что слава Богу?
— Да то, что вы живы, здоровы. Мы ведь, грешным делом, думали, что в партизанах все нехристи разные ходят, разбойники. А тут, оказывается, вон какие молодцы имеются.
Польщенный Федот усмехнулся:
— Ладно уж… Ты лучше, Никула, скажи, много наших в белые ушло?
— А почти весь поселок. С Царской улицы все до одного ушли. Да тем оно, положим, туда и дорога. Обидно, что такие мужики, как Матвей Мирсанов и Пашка Швецов, к ним приткнулись. Отговаривал я их, отговаривал, — убежденно говорил Никула, уже сам веря своим словам, — да куда там! Уперлись как быки. Куда, говорят, весь поселок, туда и мы. А вы знаете, что фронтовиков-то наших и Северьяна Улыбина белые каратели изрубили?
— Я-то знаю, слышал. А вот Роман-то, кажется, не знает, что у него отца убили. Ну, да ничего, мы за них не одной сволочи горло перервем…
Никула пригласил его заехать напиться чаю, но Федот сказал, что сейчас некогда, и, ударив рослого, статного коня нагайкой, поскакал на Царскую улицу.
Встреча с Федотом успокоила Никулу. Он решил, что раз в партизанах есть посёльщики, да еще ближайшие соседи, то бояться их нечего. Кого-кого, а Никулу свои в обиду не дадут. Он повеселел, смело уселся на свою завалинку и стал искать случай разговориться с партизанами. У артиллеристов, ехавших со своим единственным орудием, он спросил:
— Пушку-то, так и знай, у семеновцев отобрали?
— У семеновцев, — ответил ему рыжебородый, с узко поставленными глазами батареец в косматой папахе. Подъехав к Никуле, батареец попросил у него табаку на закурку. Никула отвалил ему зеленого самосада не на одну, а на дюжину закурок и почувствовал себя совсем хорошо.
У Федота было давно решено, что в Мунгаловском он станет на квартиру не к кому-нибудь, а к своему бывшему хозяину, Платону Волокитину, на сестре которого, Клавдии, мечтал — жениться.
Ради такого случая Федот с вечера тщательно побрился, подстриг свой огненный чуб и вырядился в кожаную куртку и в снятые с убитого семеновского есаула голубые штаны с лампасами. «На этот раз, — думал он, — Волокитиха у меня много не поворчит. Я ее живо шелковой сделаю, по одной половице ходить заставлю. На кухне у нее жить я не стану, а в горнице поселюсь. Спать буду на той кровати, на которой у них при старом прижиме господа земские чиновники спали. Да, глядишь, и не один спать-то буду, а с молодухой под боком».
С той особой, как бы небрежной, молодцеватой посадочкой, которой умеют при случае щегольнуть лихие наездники, въехал он в волокитинскую ограду через распахнутые настежь ворота. В ограде уже стояло десятка два оседланных партизанских лошадей. Два молодых паренька с непомерно длинными драгунскими саблями на боку и с гранатами на поясах носили из амбара ведрами овес и щедро сыпали его лошадям прямо на землю. Федоту не понравилось, что на квартире, где он заведомо считал себя хозяином, бесцеремонно распоряжаются, и, чтобы придраться к чему-нибудь, прикрикнул на пареньков:
— Что вы тут, обормоты, расхозяйничались! Сорите овес направо и налево. Безобразничать-то шибко нечего. Овес, он денег стоит.
— Катись-ка ты со своими указками подальше, — огрызнулся один из пареньков, стараясь говорить басом.
— Ах ты, шибздик! — рассвирепел Федот и схватился за маузер. Паренек, ополоумев от страха, кинулся в дом. Оттуда он вышел в сопровождении пожилого, со скуластым лоснящимся лицом партизана в синей далембовой куртке.
— Ты чего, браток, шеперишься? Пошто ребятенок обижаешь? — с добродушной усмешкой спросил у Федота скуластый.
— Овес они тут почем зря сорят. Зачем же хозяев напрасно обижать?
— А хозяев-то здесь, браток, нету. Видать, с белогвардейцами удрали. Мы в доме ни одной живой души не нашли.
— Ну, тогда другое дело, — сказал Федот и почувствовал, что стало ему невыносимо скучно. Он слез с коня, привязал его к столбу с железными кольцами и пошел в дом.
На кухне уже вовсю хозяйничали партизаны. Один из них заводил в желтом медном тазу тесто для лепешек, другой растапливал плиту, а третий щипал лучину для самовара. Остальные слонялись по просторной горнице и от нечего делать разглядывали на стенах бесчисленные фотографические карточки казаков и казачек в затейливых рамках, которые в прежнее время с замечательным искусством делали каторжане в Горном Зерентуе. Один из партизан при виде Федота ткнул пальцем в одну из карточек и спросил у него:
— Сдается мне, что это ты тут, товаришок, восседаешь? Уж не родственник ли ты хозяину?
Федот подошел, взглянул на карточку и криво рассмеялся:
— Я это, не ошибся ты. Это я еще на действительной снимался в Чите. А карточка моя сюда потому попала, что я у хозяина-то шесть лет в работниках жил.