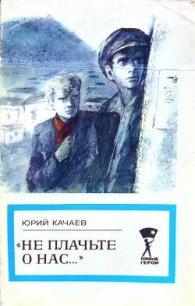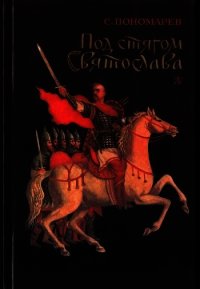...И гневается океан (Историческая повесть) - Качаев Юрий (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений txt) 📗
Тойон рухнул на колени:
— Батюшка, Лисандра Андреич! Грех попутал. Вперед бегать не стану. Истинный крест!
— Знаю, что вперед не станешь, так хоть назад бы не бегал, других не вводил в искушение, — сурово сказал Баранов, едва сдерживая смех: уж очень виноватый и потешный был у князька вид. — Ну что мне с тобой делать? Повесить али медаль отнять?
— Лучше повесить, батюшка, — ни секунды не колеблясь, отвечал Нанкок. — Без медали мне никак не можно, меня тогда даже бабы слушаться перестанут.
— Ладно, — подумав, сказал Баранов. — Повесить тебя жаль, хороший охотник пропадет. Но и без наказания оставить не могу. Вот что: сам острижешь себе половину бороды, дабы каждому видно было, что ты провинился. А такого позору чтоб больше за тобой никто не видывал. Ступай.
На другой день правитель начал снова готовиться к штурму. «Нева», подтянувшись на верпах ближе к берегу, непрерывно обстреливала колошей. Скоро крепость загорелась. В подзорную трубу Баранов видел, как по ее двору суматошливо бегают люди, безуспешно пытаясь погасить пожар.
Потом открылись ворота, ведущие к берегу, и из них показалось шествие с белым флагом. Шествие направилось к Кекуру.
Как выяснилось, колоши пришли просить мира и привели с собой десять аманатов. Заложников правитель принять согласился, но сказал, что для заключения мира должен явиться сам Котлеян. В противном случае штурм будет повторен, а Котлеян повешен вместе с родичами.
— Пакостлив, как кошка, а труслив, как заяц, — про себя добавил Баранов.
Индейцы ушли. А наутро прибежал Кусков и сообщил, что крепость покинута. Под покровом темноты колоши бежали в глубь материка, бросив трех старух и пятерых зарезанных грудных младенцев. Из трофеев русским досталось несколько чугунных фальконетов и полсотни больших лодок.
Старух Баранов отпустил.
Десятого ноября Лисянский отправился на зимовку в Кадьяк. С ним уезжали пленные колоши и аманаты. В кадьякскую контору Баранов послал с Лисянским записку: «Пленных разослать по дальним артелям и употреблять в работы наравне с алеутами, а в случае озорничества штрафовать, однако ж обувать и Одевать не гнусно».
ГЛАВА 20
Церемония переезда была торжественной. К «Надежде» подошла и стала борт о борт большая яхта, снаружи вся изукрашенная бронзовыми барельефами. Стены и перегородки кают, покрытые лаком, сверкали подобно зеркалам; пунцовые флаги с белым кругом посредине, свисали по бортам яхты. Балюстрада трапа поражала вычурностью своей отделки.
Николай Петрович Резанов в шитом золотом мундире камергера поднялся на шканцы. Почетный караул вступил на яхту; за ним два кавалера посольской свиты несли грамоту царя. Над яхтой взвился русский императорский штандарт. Посол сошел вниз, в обитую дорогим штофом каюту, посредине которой на четырех резных колоннах был утвержден легкий золоченый балдахин. Под ним стояли кресло для посла и низенький разлапистый столик для царской грамоты.
Яхту буксировали шесть японских барок и сопровождали восемьдесят больших лодок.
В новом доме Резанов получил письмо от губернатора, имя которого по своей пышности не уступало именам испанских грандов: Хида-Бунго-Но-Хами-Сама. Губернатор сообщал, что на днях в Нагасаки приедет правительственный даймио [52], и он передаст господину послу решение государственного совета.
«Медленность в решении столь важного дела, — писал губернатор, — произошла оттого, что оно требовало больших рассуждений; поэтому двор не хотел решить оного без совета чинов государственных. А так как они находились в разных провинциях и не в близком расстоянии от столицы, то не скоро смогли съехаться в Иеддо. Этот чрезвычайный совет состоял с лишком из двухсот князей и вельмож, и хотя, впрочем, дело сие было давно решено императором, но государь хотел еще сделать честь своему дяде и другому родному брату своему, которых он почитает, чтобы спросить и у них мнения о деле…»
На другой день на «Надежду» приехали баниосы со множеством лодок, чтобы перевезти в дом посланника подарки русского императора. В числе подарков было несколько огромных зеркал. Для них приготовили два грузовых судна, устланных дорогими циновками и покрывалами. Крузенштерн поинтересовался, каким образом доставят зеркала в Иеддо. Один из баниосов ответил, что их отнесут туда на руках.
— Но ведь для этого нужна по меньшей мере сотня человек, да и те должны меняться на каждой версте, — возразил Крузенштерн.
— Для японского императора, — гордо ответил банное, — нет ничего невозможного. Два года назад он получил из Китая в подарок слона, и того отнесли в столицу на руках.
Крузенштерн лишь удивленно помотал головой. Но он удивился еще больше, когда ему передали разрешение из столицы войти в порт Нагасаки: «Надежда» стояла в гавани уже второй месяц.
— Таких чудес и при нашем дворе не увидишь, — смеялись офицеры корабля.
30 января, в японский Новый год, Резанов получил от губернатора красивый ящик тонкой работы, В ящике лежали мешочки, сплетенные из рисовой соломы. Развязывая их по очереди, Скизейма растолковывал значение каждого подарка.
Высушенный краб символизировал здоровье.
— Ведь у краба отрастают даже оторванные клешни, — пояснил толмач.
В другом мешочке лежал апельсин — символ плодородия. В третьем — кусок древесного угля, означавший богатство. В четвертом помещались вяленые фрукты, нанизанные на палочки, соль, рис и морские водоросли.
— Такие мешочки, — сказал Скизейма, — висят сейчас над воротами каждого дома.
По случаю праздника все японцы независимо от рангов были одеты в светло-голубое платье одинакового покроя.
Возле ворот посольского дома слуги воткнули небольшие елочки, а по всем комнатам разбросали жареные бобы, чтобы отогнать злых духов.
Николай Петрович попытался еще раз узнать, когда же, наконец, состоится аудиенция, но толку не добился. Очевидно, баниосы и сами не имели об этом понятия.
Так в бесплодном ожидании прошел еще месяц. За это время случилось только одно событие: японец Такимура, помогавший Резанову в работе над словарем, перерезал себе горло бритвой. Однако рана оказалась не смертельной, и японца удалось спасти. Едва оправившись, он попросил свидания с Резановым.
— Мне надо, чтобы вы простили меня, господин, — шепотом заговорил больной.
— За что, дружок? — ласково спросил Николай Петрович.
— Я очень плохой и злой человек. Я писал баниосам письмо и жаловался, будто… будто в России меня заставляли переменить веру.
— Но ведь это неправда.
Текимура кивнул, и по его морщинистой щеке поползла слеза.
— Я думал, баниосы скорее выпустят меня. Еще я писал, будто русские приехали испытать, нельзя ли ввести в Японии христианство. Вот так я отплатил за вашу доброту.
— Не надо убиваться, Такимура, — грустно сказал Николай Петрович, — твое письмо ничуть нам не повредило. Выздоравливай…
Он вышел от японца подавленный. Чтобы повидать семью, человек обесчестил себя и все равно ничего не добился…
В начале апреля посланнику сообщили, что его готов принять полномочный сановник японского императора. Этот человек занимал при дворе очень высокое положение: он имел право лицезреть ноги монарха. Такой почести не удостаивались даже нагасакские губернаторы.
От пристани до площади, где находился губернаторский дворец, было рукой подать, однако Резанову объяснили, что его понесут в норимоне [53].
Шествие возглавляли полсотни баниосов в сопровождении имперских солдат с длинными бамбуковыми палками в руках; далее четыре человека несли норимон с посланником; следом за ним выступал русский сержант со штандартом; замыкали процессию тоже солдаты под командой конного офицера.