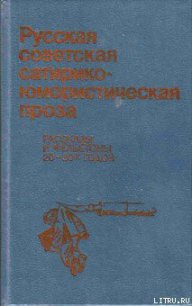Пейпус-Озеро - Шишков Вячеслав Яковлевич (читать книги бесплатно полные версии txt) 📗
— Качай!.. Закрывай!.. Багры, багры!..
Николай Ребров из-под шубы с койки во все глаза и не может понять, что кругом, где он.
— Берегись, берегись, едрит твою налево!! Чорт…
Николай Ребров сразу понял: «Россия» — чрез уши, чрез тончайшую сеть вибраций, в самую больную, в самую желанную улыбчивую точку этой похабной русской руганью, и вот самое светлое слово, как в метельную ночь призывный звон: Россия.
— Берегись, берегись!.. Задавит…
И огневая стена, охнув, с треском рухнула.
И дальше: скрипел под полозьями снег, или собачья свора выла в тыщу голосов. Когда откроешь глаза: лес, спина возницы; когда закроешь — тьма, зыбкая, баюкающая. Лес, тьма, лес, тьма. Нет, лучше не открывать глаза. Что-то с его, Николая Реброва, телом, и тело это чужое, противное, грузное, куда-то его несут, может быть, на погост несут, сердито переговариваются. Недолгая тишина и — сразу густые, бесконечные стоны. Застонал и Николай Ребров. Он открыл глаза и по-живому осмотрелся. Жив. Народный Дом. Тот самый, сцена, солома и куча больных. Опять, опять! Почему они не замолчат? Убейте их! Вышвырните их вон, на снег, к чорту! Опять больные…
Но вся в сияньи, в звездах подходит к нему она… — Сестра Мария, спаси… — Да, я Мария дева. Спасу. — И его несут невидимые руки, и голос Марии-девы говорит:
— В артистическую, в уборную… Затопите печь.
Ах, эта печь, белая, изразцовая. Нет, нет, это их белая комната, там, под Лугой.
— Коля, твой чай остынет, — сказала мать.
И газетные листы над головой отца зашевелились. Сестра, маленькая девочка, сестренка Катя. Белая комната, их комната, там, под Лугой, белая комната тиха, так тихо, так понятно все. И что-то нужно вспомнить ему. Силится, силится, но не может вспомнить. Вспомнил:
— Мама. Умираю… Неужели ты не чувствуешь? Смерть.
— Пей чай… Пей до дна: так надо.
И вновь тьма, и вновь светло, лесу нет, не скрипит снег под полозьями, но собачья свора воет. Псы говорят, не псы, санитары, но у них собачьи хвосты и зубастые песьи морды — псы говорят:
— Этот готов… И там шестеро… И этот… Всего семнадцать… Надо выносить…
Сквозь щелки полузакрытых глаз Николай Ребров видит: утро, в окнах свет, на полу солома, и плечо к плечу по всему полу больные или мертвые. Один, рыжеусый, рядом с ним, лежит спокойно, словно спит. Да ведь это же Карп Иваныч, торгаш из-под Белых Струг. А что ж его сын Сергей?
— Карп Иваныч! Где ваш сын? Карп Иваныч, вы живы или умерли?
— Умер, — ответил, не дрогнув Карп Иваныч, и голова у него стала лошадиная.
Тогда санитар плюнул в руки и стащил с него сапоги:
— Деньги, наверно, есть. Глянь, какое богатое кольцо.
— Кольцо мне, тебе сапоги.
— Ишь ты… А в зубы хочешь!..
И здесь, и там, везде обшаривают мертвецов: часы, сапоги, запонки, куртки, портсигары. Потом садятся в угол и при живых, нос в нос уткнув собачьи свои морды, делят добычу, как при мертвых. Живые стонут, охают. Николай Ребров кричит:
— Я еще жив! Не подходи!.. Завтра! Может быть, завтра также и меня. Завтра…
Но собачьи хвосты растут-растут, крутятся, хлещут, они захлестнут его, они задушат. Стра-а-ашно…
— Милый, я здесь, — говорит не Мария-дева, а просто сестра Мария, — я с вами, я люблю вас. Мой муж, Дмитрий Панфилыч, помер.
Глава 11. Либо смерть, либо Россия
В конце февраля тифозная эпидемия остановилась. Ликвидация Северо-Западной армии, затихшая-было во время эпидемии, развернулась в полной силе. Выдавали расчет с большими вычетами за продукты, за обмундировку, выдавались аттестаты о службе. Николай Ребров каким-то чудом окончательно оправился. Он напряженно занимался в канцелярии с раннего утра до глубокой ночи. Он слаб, тощ и бледен, волосы на бритой голове вырастали медленно, от носа к углам рта пережитое пропахало две резких вечных борозды, веселые быстрые глаза стали задумчивы, строги, умудренны: они так недавно глядели на смерть.
Состав писарей новый. Прежние бежали или умерли. Умер и хохол Кравчук. Умирая, молился об Украине, о матери: «Ой, мати, мати», о своей жене Гарпине. Трофим Егоров, приятель Кравчука, похоронил его в лесу, версты за три от дома баронессы. На могиле поставил большой чисто струганый крест. На кресте надпись:
«Господи, прими духъ твой смиром».
«Здесь покоится унтеръ-офицеръ штабной писарь Кравчукъ Анисимъ, пострадавшiй за веру и отечество, который где-то изъ подъ Кыеву. 17 февраля 1920 года. Аминь».
Урвав свободный час, Ребров с Трофимом Егоровым пошли на могилу. Навстречу им, или опережая их, попадались бывшие солдаты армии Юденича и русские мужики.
— Куда, братцы?
— Куда глаза глядят, — с горечью отвечали они. Их вид был злобно-покорный, как у людей, приговоренных к многолетней каторге, утомленные их глаза с ненавистью озирались по сторонам. — А не знаете ли, где тут фольварк Шпильберг?
— Были мы у Ганса, чухна такой есть, мыза у него. Ну, прижимист, чорт: за хлеб, говорит, ежели, работайте. Вас много, говорит, тут шляется. А придется, придется дарма работать: есть-пить надо… Эх, братцы…
— Мы, как челноки: угнало нас бурей с родных песков, прибило к чужому берегу, посадили нас на привязь, а вот теперь и причалы обрезали: плыви, кто куда желает… Эх, жисть!
Эти надрывные вопросы стукались в сердце юноши, как комья земли в крышку гроба.
А вот и могила: крест с венком из хвой. На прибитой жести земляком покойного, ветеринарным фельдшером, старательно написано:
Юноша перекрестился, минуту постоял с опущенной головой, прочел стихи и, неожиданно для самого себя, вдруг заплакал.
— Колька, что ты? — растерялся Трофим Егоров. — О чем ты это?
Юноша с трудом оторвал ладони от лица и чрез озера слез радостно взглянул на солдата:
— О себе, Егоров, о себе, — сказал он, выдыхая слова. — Кравчук зарыт, а надо мной нет такого креста, и я живой. Ему не видать больше родины, а я увижу. Уви-и-жу! Егоров, ты любишь Россию, родину?
— Она баба, что ли? Хы, смешно, — и лицо солдата раскололось пополам улыбкой.
— Дурак ты, — сказал Ребров.
Лицо Егорова вмиг срослось, он отвернулся и засопел. Он за последнее время состарился лет на десять: бритый, согнувшийся, обрюзгший, был похож на старуху с запавшим ртом.
— Конешно, тоскую по домашности, — обиженным голосом сказал он.
— Бежим, Егоров!
— Куда? В Рассею? Бежим, Колька, — и узенькие глаза солдата совсем сложились в щелки. — А как здохнем, окочуримся, али замерзнем на озере?
— Пусть. Либо смерть, либо Россия!
Они возвращались домой в радостном молчании. Были сизые сумерки, воздух мягок и пахуч: зима последние доживала сроки.