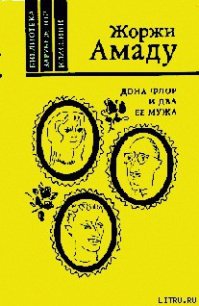Дон Жуан. Жизнь и смерть дона Мигеля из Маньяры - Томан Йозеф (читать книги бесплатно полные версии .TXT) 📗
— Эх, сынок, в общинах первых христиан были люди не беднее твоего отца. И они продали все, чем владели, а деньги роздали тем, кто нуждался. Вот какова христианская любовь, малыш.
Мигель опешил.
— И вы хотели бы, чтоб и мой отец все роздал…
Рассмеялся Грегорио:
— Хотел бы, да знаю, хотение мое ничего не значит! — И серьезно добавил. — Мне важна твоя судьба. Ты — не такой, как отец. У тебя нежное сердце… Ты мог бы многое людям…
Властный жест Мигеля заставил его замолчать. Юный граф решительно отвергает слова монаха:
— Я никогда ничего не стану продавать. Я дворянин, а не торговец! И никогда не стану раздавать добро — я не податель милостыни!
— Ну, впереди еще много дней, — спокойно возражает монах. — И все-таки тебе приятно быть со мной, Мигель.
— Да, — тихо соглашается мальчик, краснея.
— Не стыдись этого. Чувство — это цветенье сердца. Меня же, слава господу в вышних, многие любят. И большая моя в том радость, сынок, что и ты тоже.
Они засели за греческих философов, и хорошо им вместе, но не чуют они, что скоро пути их разойдутся.
Слева сидит Трифон, справа — мать. Между ними — Распятый.
На перепутье скорби, стыда и раскаяния стоит перед ними Мигель, словно прутик на ветру, ибо весть о гибели лебедя дошла до господских ушей.
Куда обратить лицо, искаженное стыдом?
— Жестокое дело — убить божью тварь, — звучит слева холодный голос.
— Ты жестокий мальчик, если смог убить такую прекрасную птицу, — доносится справа.
— За что ты убил? — разом справа и слева.
— Я раскаиваюсь, раскаиваюсь! — в отчаянии плачет допрашиваемый. — Падре Грегорио сердится на меня, я знаю, он сердится, хотя и говорит, что нет… Он никогда не простит мне этого позорного поступка…
— Прощает даже бог, — внезапно смягчается голос слева, — не только человек…
Трифон в недоумении: как же это Грегорио оказался на той же чаше весов, что и я? И Трифон продолжает донимать ученика:
— Так за что же ты убил?
— Меня так притягивало его мягкое, теплое оперение, я всегда дрожал, когда гладил его, и я подумал, что это — искушение, оно напоминало мне ладонь…
Все разом выворачивается наизнанку.
— Так вот почему ты убил? — Слева и справа глубокое изумление.
— Да, да, — плачет виновный, — но я раскаиваюсь! Господи, ты видишь, как мне жаль…
— Не раскаивайся! — голос слева.
— Ты хорошо сделал! — вторит голос справа.
Широко открыв глаза, Мигель лепечет:
— Как — вы одобряете?..
— Да. Ибо если ты убил, чтобы устранить соблазн, то ты сделал это ради спасения души.
— Знал ли падре Грегорио, почему ты убил лебедя? — спрашивает Трифон змеиным языком.
— Знал. — И Мигель тут же догадывается, что сказал нечто во вред монаху. — Нет, не знал! — поспешно отрицает он. — Не знал! Кажется, я не говорил ему причины…
— Довольно. Этого хватит. — Ледяной тон слева.
— Ты можешь идти, — говорит мать, и Мигель выходит.
Священник поднялся с места и разразился речью. Он подчеркивает, сколь пагубно влияние Грегорио на Душу мальчика, напоминает, какие еретические разговоры ведет этот язычник, который за ширмой коварных философских учений скрывает мятежный дух, искореняя в сердце и мыслях Мигеля светлый дар божьей милости…
В тот же вечер донья Херонима заставила мужа изгнать Грегорио из Маньяры. Напрасно дон Томас защищал монаха, упирая на те успехи, которые показывает сын в предметах, преподаваемых Грегорио.
— Язычник, созревший для святой инквизиции, не должен портить моего сына. К тому же у меня есть точные сведения, что Грегорио — бунтовщик. Он подстрекает против вас ваших же подданных, а вы и понятия о том не имеете, — бросает донья Херонима. — Вы пригрели змею на груди. Уберите его немедленно, дон Томас.
Граф, взвесив это обвинение, изрек:
— Он уйдет.
Свеча на мраморной столешнице доживает свой век, растопленный воск стекает, обнажается фитиль, и восковые слезы скатываются на подсвечник, застывая на холодном серебре.
За Столом сидит дон Томас, растерянно поглаживая свою бородку, — он знает, что в лице Грегорио теряет союзника в борьбе за будущее сына; а монах стоит перед ним. Свет надает на лицо капуцина снизу, от этого подбородок его кажется массивнее, нос увеличился, а все, что расплывчато на его лице, как бы отступило на задний план.
— …мне ничего не остается, падре, как поблагодарить за все заботы о моем сыне и проститься с тобою.
— Ваша милость мной недовольна? — тихо спрашивает монах.
— Нет, нет, приятель, — живо возразил было Томас, и вдруг осекся, вспомнив, что Грегорио бунтовщик, и продолжал уже сухо. — Мигель делал успехи под твоим руководством, но… некоторые обстоятельства. Вот возьми, падре.
Монах равнодушно посмотрел на кошелек, в котором зазвенело золото, и не протянул к нему руки.
— Понимаю. Мне следует лишь четыре дублона за последний месяц.
— Прими это от меня на добрую память.
Монах взял кошелек и опустил его в свою суму — вспомнил о своих друзьях, работниках.
— Дозволено ли мне перед уходом поклониться ее милости?
— К сожалению, супруга моя нездорова, — смущенно отвечал дон Томас.
— А проститься с Мигелем можно?
Дон Томас угрюмо уставился на пламя свечи и промолчал.
— Понимаю, — тихо повторил монах. — Теперь я уже все понял Передайте же привет от меня Мигелю, ваша милость.
Он вышел во двор; горечь и сожаление охватили его. В голове у него пустыня, где не родится мысль. Одна пустота зияет там, глухая, немая, бесцветная пустота. А сердце сжимает боль.
Грегорио обнял Али, Петронила подставила ему щеку, мокрую от слез, и монах, отягченный горем, унижением, жалостью и бутылкой вина, пошел со двора, где воцарилась печаль. Он двинулся к Гвадалквивиру.
Тихо струится река в облачных пеленах, отражающихся на ее челе, тихо струится она, мурлыча старую песню.
Сидит Грегорио на прибрежном камне, и в испарениях, встающих над водой, чудится ему лицо Мигеля.
— Ах ты, мой сынок, — ласково обращается он к видению, — ах ты, радость моя, что же осталось мне, когда тебя отняли? Знаешь ли ты, как я тебя любил? Ты был единственным огоньком моей старости… Я вкладывал в тебя зерна лучшего из всего, что сам знал и чувствовал… А ты, восприимчивая, нежная душа, ты понимал меня, старика, и верил мне…
Печально вперяет свой взор Грегорио в туманный образ, волшебно сотканный из легкой дымки над рекой.
— А ты-то, каково-то будет тебе без меня, мой мальчик? Попадешь теперь целиком в лапы этой каркающей вороны Трифона, и он отравит тебе все радости жизни. Тебе, который весь — огонь и ветер, тебе — стать священником! Как это неумно… Ах, каким же одиноким и бессильным ты будешь среди этих фанатиков, Трифона и матери твоей! Я-то хотел из тебя, важного барина, сделать человека, который мог бы облегчить жизнь тысячам подвластных тебе людей. Не думай, я их тоже любил. Так же сильно, как тебя, надежда моя. Долгие годы я жил среди них, и знаю, как им будет не хватать меня… Это я знаю наверное…
Грегорио поднялся и, не отрывая взгляда от темных омутов, произнес, вкладывая в слова всю боль своей души:
— Пусть же вам хорошо живется, добрые люди! Только бы не страдать вам так много… А ты, мое хрупкое, юное сердечко, кровинка моя горячая, — только не засохни, не утрать человечности в том мраке, в котором тебя держат, как в тюрьме! Не затоптали бы твою искрящуюся душу, не задушили бы в тебе всякое человеческое чувство… Пусть тебя, мой пламенный мальчик, сопровождает со временем не плач людей, а любовь их!
Умолк Грегорио, слезы катились по его щекам. Месяц, закутанный облачками, и река, темная под туманными парами, грустят вместе со старым монахом.