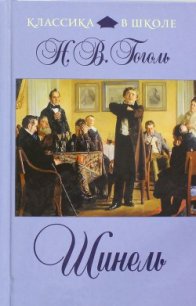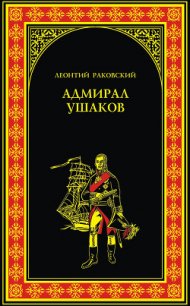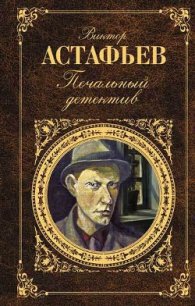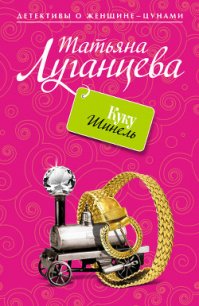Изумленный капитан - Раковский Леонтий Иосифович (книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
II
У Фроловских ворот Печкуров остановился в нерешительности: куда итти?
Он полдня прослонялся за Днепром, в гостиных дворах, надеясь найти какой-либо заработок – ничего не вышло.
У лабазов ждала толпа голодного, оборванного люда из подгородних дворцовых и монастырских деревень. Стоило купцу только показаться на пороге, как к нему, сшибая друг друга с ног, отовсюду бежали люди.
Печкуров ослабел от долголетней постоянной голодухи. Он не мог поспеть за более сильными и молодыми.
Простояв напрасно полдня, он, голодный, побрел домой.
На берегу Днепра полдничали рыбаки Авраамиевского монастыря. Они кинули Печкурову – Христа ради – кусок ячменной лепешки.
С тем Печкуров и приплелся в крепость.
По дороге он, у «Торжища», глянул было в корчму к знакомому целовальнику, который служил в ней еще при Борухе и помнил Печкурова. Но в корчме, как на грех, Печкуров наткнулся на самого хозяина, откупщика Герасима Шилу, который, несмотря на июньскую жару, щеголял в новеньком фаляндышевом [22] жупане.
Увидев Печкурова, Шила затряс своей козлиной бородкой, затопал ногами:
– Вон!
(Шила не мог простить Печкурову, что он служил у Боруха).
Печкуров выкатился из корчмы, не дожидаясь, когда озлобленный Шила стукнет его по затылку, и побрел дальше по пустынным, пыльным улицам Смоленска.
С того Успеньева дня, 722 года, когда Борух окончательно оставил Зверовичи, и откупа перешли к Герасиму Шиле, Печкуров мыкался без работы вот уже четвертый год. В деревне работы не было: пахать – не на ком, сеять – нечего. Да у того, кто как-либо умудрился посеять, – толку было мало, – который год не родила земля. Народ кормился лебедой, кореньями да жолудями. Весной варили пустой – даже без соли – щавель и крапиву.
От голодухи и царских поборов разбегались кто куда: кто с покормежным письмом пустился по белу-свету, а кто со всеми животами махнул за рубеж – авось, там лучше!
Пока Печкуров стоял, теребя в раздумьи давно нечесаную бороду, мимо него к Соборному холму проковыляли на костылях двое калек. Ватага голозадых ребятишек пронеслась вслед за ними.
– Верно, в бискупском доме сегодня стол по какому-нибудь случаю, – решил Печкуров и повернул к Соборному холму, туда, где блестели главы Успенского собора.
У старого архиерейского дома, прозванного бискупским (в нем за польским владычеством жили католические епископы) толпился народ.
Печкуров напрасно пришел – никакого стола для бедных на архиерейском подворьи не было. Народ глазел на чьи-то сборы в дорогу – у крыльца стоял поместительный возок, запряженный парой неказистых, пузатых лошаденок.
В первый момент Печкуров не мог сообразить, кто ж уезжает. У лошадей, с кнутом под мышкой, похаживал, поправляя упряжь, флегматичный архиерейский кучер Федор. Выходило так, будто в путь-дорогу собрался сам архиепископ Филофей-арек. Но в запряжке были не вороные жеребцы из всегдашнего архиерейского выезда, а самые захудалые из всей конюшни – на таких с Днепра возили воду.
А из всей многочисленной архиерейской челяди сновал кросны от возка к дому один молодой, чернявый келейник.
Вот он вынес ясеневую укладку с большим висячим замком, но, по всей видимости, пустую – нес ее легко. Поставив укладку, келейник побежал снова в дом. Через минуту он вернулся, неся две подушки в грязных, измазанных клопами, наволочках.
– А куда ж девались перины, на которых архиепископ, бывало, перекачивался с боку на бок в саду, под яблоней?
Печкуров только собирался обо всем расспросить кого-либо, что это все значит, как услышал разговор в толпе:
– Отрешили вовсе. Едет к царице жалиться…
– А за что это его?
– Все добро пропил.
– Какой же это пастырь – в турецких шароварах ходил да блох из собаки вычесывал! У помещицы Помаскиной купил щенка – две тысячи кирпичу монастырского за него отдал!
– А где же его толмач? – спросил Печкуров у какого-то щуплого мещанина, который досконально все знал.
– Галатьянов? – переспросил, усмехаясь, мещанин. – Ищи его – он, брат, хитер: еще весной почуял, что дело плохо. В Москву укатил! Вином в Вознесенском монастыре торгует!
– Как же архиерей без толмача обходится? Ведь он русского-то языка не понимает?
– Верно: худо ему без Галатьянова – тот по-русски лопотал, как репу грыз, а келейник вовсе мало по-гречески смыслит.
– Гляди, гляди, идет! – послышалось в толпе.
На крыльцо, тяжело отдуваясь, вышел тучный архиепископ Филофей-грек. Он был одет по-дорожному – в потертую бархатную рясу и скуфью вместо клобука.
Архиепископ остановился, оглядываясь назад, видимо, поджидая кого-то. Из покоев доносился крик двух спорящих голосов.
– Мне просвирня рассказывала, – зашептала своей соседке какая-то мещанка, стоявшая рядом с Печкуровым: – Раньше архиерей перед обедней лицо серным дымом окуривал, чтобы белым быть! А то – видишь – пастырь, монах, а рожа – ровно горшок, красная…
– Теперь ему не до того, – усмехнулась соседка.
В это время на крыльцо выбежал покрасневший келейник.
За ним по пятам следовал сухощавый управитель архиерейских дел, Лазарь Кобяков.
Кобяков был возбужден. Он кричал, жестикулируя и брызгаясь слюной:
– Ничего не получите! Это вам не Константинополь! Тут голландской посольши нет, которая б дала вам на дорогу семь тысяч левков! И так доедете. Довольно! За четыре года наворовались! Хватит!
Архиепископ Филофей понял все без слов. Его толстые щеки побагровели. Он презрительно взглянул на разъяренного иеромонаха, быстро сошел с крыльца и, с неожиданной для своего тучного тела легкостью, влез в возок.
Келейник вскочил на грядку телеги, кучер подобрал вожжи и стегнул по неказистым лошаденкам.
Возок тронулся с места, и архиепископ, провожаемый вместо колокольного звона громкой руганью управителя архиерейских дел, отправился в далекий путь.
Народ, судача, медленно расходился.
Печкуров побрел из подворья.
Не успел он пройти нескольких шагов, как увидел бегущего навстречу ему целовальника из корчмы у «Торжища».
– Хозяина, Шилу, не видел? Он – там? – кивая на архиерейский дом, спросил целовальник.
– Нет. А что?
Целовальник остановился и, смеясь, сказал:
– Потеха! Из Питербурха Борух Глебов приехал: царица ему все откупа вернула…
Печкуров не стал дальше разговаривать с целовальником – он изо всех ног кинулся к «Торжищу».
У корчмы Печкуров еще издали увидел телегу с привязанными к задку пыльными коробьями.
Возле телеги, стряхивая с сапог дорожную грязь, топал солдат. В дверях корчмы, улыбаясь в широкую, черную бороду, стоял лопоухий Борух.
III
Когда Софья наконец услышала знакомый шум, доносившийся с Красной площади, сердце ее радостно забилось.
– С этого края идут сапожные и шорные ряды, – подумала она. Вспомнился вкусный запах дегтя, сыромяти, кожи.
– Дальше – скорняжный, суконный, а там мимо Василия Блаженного на мост и – в монастыре. Мать Серафима, Маремьяна Исаевна. Скорей бы!..
Софья прибавила шагу, обогнала нищих, которые, подымая пыль, ковыляли к площади, и вышла ко второму пряслу первого ряда. Так и есть – за четыре года она не забыла: с этой стороны площади торговали шорники.
У крайнего ларя, разглядывая отделанную серебром уздечку, стояли двое драгун в синих кафтанах с белыми отворотами. Один из драгун оглянулся на проходившую девушку.
Софья не вытерпела – сегодня она была в таком чудном настроении – ласково улыбнулась драгуну.
Драгун толкнул приятеля в бок и что-то зашептал ему на ухо. Софья прошла несколько шагов и снова оглянулась.
Драгун не спускал глаз с Софьи и в то же время продолжал тащить товарища от ларя. Но второй драгун упирался – его, видимо, больше интересовала уздечка.
Софья еще раз лукаво улыбнулась и юркнула в толпу. Она знала: в такой толкучке нелегко найти человека.
22
Фаляндыш – толстое сукно.