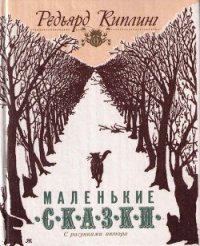В кратере - Киплинг Редьярд Джозеф (читать полностью книгу без регистрации TXT) 📗
Я не мог ошибиться. Это была пуля из Мартини Генри — «пикетного» ружья. Ярдов в пятистах от меня на середине реки стояла местная лодка, которую удерживал якорь. От нее расплывались клубы дыма и таяли в тихом утреннем воздухе: это показало, с какой стороны мне послали любезный привет. Ну, был ли когда-нибудь почтенный джентльмен в таком неприятном положении? Предательский песчаный откос мешал мне ускользнуть из места, которое я посетил совершенно непроизвольно, а прогулка вдоль реки служила сигналом для начала бомбардировки со стороны какого-нибудь безумного туземца в лодке. Должен сознаться, что я совершенно вышел из себя.
Новая пуля сказала, что мне лучше убраться подобру-поздорову. Я поспешно вернулся в подковообразный кратер и увидел, что звук ружейного выстрела вызвал из барсучьих нор, которые я считал пустыми, шестьдесят пять человеческих существ. Я очутился перед толпой наблюдателей: тут было человек сорок мужчин, двадцать женщин и ребенок лет пяти, все еле прикрытые обрывками той ткани цвета семги, которая в уме всегда соединяется с представлением о нищем индусе. С первого взгляда мне показалось, что передо мной какие-то противные факиры. Невозможно описать, как грязны, как отвратительны были эти люди, и я задрожал, подумав, какую жизнь, вероятно, вели они в своих норах.
Даже теперь, когда местное самоуправление уничтожило часть уважения туземцев к сахибам, я еще не потерял привычки к известной вежливости со стороны людей, стоящих ниже меня, и, подходя к толпе, понятно, ждал, что странное сборище чем-нибудь выразит, что оно видит меня. Оно действительно выразило, но совсем не так, как я ожидал.
Толпа оборванцев захохотала, насмехаясь надо мной, и я надеюсь никогда больше не услышать такого хохота. Они клохтали, выли, свистели и кричали, пока я подходил к ним. Некоторые буквально катались по земле в конвульсиях от недоброго смеха. Я бросил повод Порника и, невыразимо раздраженный моими приключениями, начал изо всех сил бить всех попадавшихся мне под руку. Несчастные валились от моих ударов, как пешки. Вместо смеха раздались мольбы о пощаде, еще не тронутые мной обнимали мои колени и на всевозможных наречиях упрашивали меня пощадить их.
Среди этого смятения и как раз в ту минуту, когда я устыдился своей несдержанности, раздался тонкий, высокий голос, который прошептал за моим плечом: «Сахиб, сахиб, разве вы не узнаете меня? Сахиб, я Гунга Дасс, почтмейстер».
Я быстро обернулся и взглянул на говорившего.
Гунга Дасса (понятно, я без колебания привожу его настоящее имя) я знавал четыре года перед тем: он был брамином из Деккана, и пенджабское правительство уступило его одному из государств Кхальсии. Он заведовал телеграфным отделением и, когда я в последний раз видел его, был веселым, важным слугой правительства, отпустившим порядочное брюшко и любившим плохие английские остроты. Эта-то особенность и заставила меня помнить о нем после того, как я забыл услуги, оказанные им мне в качестве официального лица. Немногие индусы любят английские каламбуры.
Теперь он был неузнаваем. Признаки касты, брюшко, аспидно-серые панталоны и любезные речи — все исчезло. Я видел иссохший скелет, без тюрбана, почти совершенно голый, с длинными, спутанными волосами и глубоко ввалившимися глазами, бесцветными, как у трески. Не белей на его левой щеке шрам в виде полумесяца (след несчастного случая, в котором я был виноват), я никогда не узнал бы его. Тем не менее передо мной, несомненно, стоял Гунга Дасс, говоривший хорошо по-английски, который, по крайней мере, мог мне объяснить значение всего, что я испытал в этот день. Итак, его появление обрадовало меня.
Я повернулся к жалкой фигуре и приказал несчастному показать мне выход из кратера. Толпа в это время отступила. Гунга Дасс держал в руке только что ощипанную ворону и вместо ответа на мой вопрос медленно вполз на маленькую песчаную площадку, лежавшую перед отверстиями, и молча стал разводить на ней огонь. Сухая трава, стебли растущего на песке мака и хворост загораются легко, и я почувствовал большое утешение, видя, что Гунга Дасс поджег костер обыкновенной серной спичкой. Когда пламя разгорелось и ворона была достаточно опалена, Гунга Дасс без предисловий начал:
— Сэр! В мире только два рода людей: живые и мертвые. Когда вы умираете — вы мертвы, но, пока вы живой, вы живете. (Тут ворона потребовала его внимания, она могла превратиться в пепел.) Если вы умираете дома, но оказываетесь не мертвым, когда вас приносят для сожжения к «гхату», — вам суждено отправиться сюда…
В эту минуту я понял характер зловонного поселка, и все ужасное и страшное, о чем я когда-либо слышал или читал, побледнело перед словами бывшего брамина. Шестнадцать лет тому назад, когда я впервые высадился в Бомбее, один путешественник, армянин, рассказывал мне, что где-то в Индии существует такое место, куда отправляют индусов, имевших несчастье очнуться от летаргии или от каталепсии, и откуда их больше не выпускают. Вспомнил я также, как я хохотал, считая тогда его слова басней путешественника. И вот теперь, сидя в этой песчаной ловушке, я вспомнил отель Ватсона с его качающимися «пунками», со слугами в белых одеяниях, и фигура смуглого армянина восстала в моем уме с живостью фотографии. Я невольно залился громким хохотом. Контраст был так нелеп.
Гунга Дасс, наклонявшийся над нечистой птицей, с любопытством посмотрел на меня. Индус редко смеется, и окружающее мало побуждало его к смеху. Он торжественно снял ворону с деревянного вертела и медленно и важно съел ее. Потом продолжал рассказ. Я привожу его собственные слова.
— Во время холерных эпидемий человека сжигают чуть ли не раньше мгновения его смерти. Когда его подносят к берегу реки, холодный воздух иногда оживляет его, и, если в нем только теплится жизнь, на его нос и рот кладут ил, и он окончательно умирает. Если вместо этого он оживает больше прежнего, прибавляют еще ила, но если он делается слишком живым, его увозят. Я был слишком жив, я гневно возражал против недостойных поступков относительно меня. В те времена я был брамин и человек гордый. Теперь я мертвый и я ем, — тут он посмотрел на дочиста обглоданную грудную кость птицы, и со временем нашей встречи впервые я заметил в нем признаки волнения, — ем ворон… и всякие подобные вещи. Заметив, что я слишком ожил, меня вынули из погребальных покровов, целую неделю лечили, и я совершенно выздоровел. Тогда «они» послали меня по железной дороге на станцию Окара, и со мной поехал человек, посланный «ими». На станции Окара мы встретили еще двоих людей. Ночью нас троих посадили на верблюдов и привезли к этому месту. Меня первого бросили в эту яму. Потом двух других, и я пробыл здесь два с половиной года. Да, когда-то я был брамином и гордым человеком, а теперь питаюсь воронами.
— И нет средства выйти из этого места?
— Никакого. Сперва я делал попытки, остальные также. Но мы не выносили потоков песка, который сыпался на наши головы.
— Но ведь, — сказал я, — сторона, обращенная к реке, открыта и, право, стоит подвергнуться выстрелу, а ночью…
В моем уме мелькнул план бегства, но естественный инстинкт себялюбия заставил меня скрыть его от Гунга Дасса. Однако он угадал мою невысказанную мысль почти в то самое время, когда она явилась в моей голове, и, к моему сильному изумлению, насмешливо захохотал. Это был смех высшего над низшим или равного человека, осмеивающего равного.
— Вам не удастся, — он уже не прибавлял слова «сэр», — убежать этим путем. Но попробовать можете. Я пытался. Только раз…
Ощущение неописуемого ужаса, с которым я бесплодно боролся, совершенно сковало меня. Долгое голодание (было около десяти часов, а я ничего не ел с вечера предыдущего дня) и сильное волнение скачки истощили меня, и, право, мне кажется, в течение нескольких минут я действовал как безумный. Я кинулся на песчаный откос, обежал кругом дно кратера, то выкрикивая кощунства, то бормоча молитвы. Я несколько раз проползал между буграми с приречной стороны, но меня каждый раз прогоняли пули, доводя до нервного страха, потому что я боялся смерти бешеной собаки в этой ужасной толпе. Наконец, я, совершенно измученный, в полубреду, упал подле колодца. Никто не обратил внимания на этот спектакль, воспоминание о котором теперь заставляет меня жестоко краснеть.