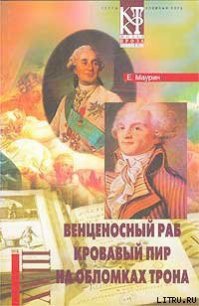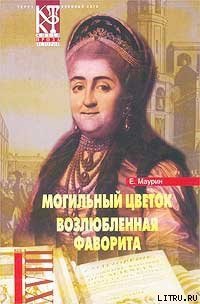На обломках трона - Маурин Евгений Иванович (читать книги онлайн полные версии .TXT) 📗
Зато первые звуки монолога Елизаветы, в котором королева говорит о своей неудовлетворенности, о страсти к Честеру, заставили Гаспара вздрогнуть и насторожиться в своем уголке. Адель несколько раз говорила ему, что чудные, глубоко поэтические строфы этого монолога производят на нее совершенно особое действие, что ей будто бы начинает казаться, что эти слова говорит не королева Елизавета, а она сама, Адель, что это она изливает в них свои страдания и чувства. И каждый раз Адель со скорбной улыбкой прибавляла, что боится, как бы вместо «О, мой Честер!» у нее не вырвалось: «О, мой Тальма!»
И вот с первых слов монолога Гаспар глубоко почувствовал, что это настроение теперь всецело овладело Аделью. Он знал специфические нотки голоса, свойственные именно ее личным переживаниям, и с тем предвидением, которое устанавливается при долгой близости к человеку, схватился за голову, чувствуя, что скоро произойдет то неизбежное, страшное, неотвратимое, чего он все время бессознательно боялся!
Однако зрительный зал отнюдь не находил чего-нибудь особенного в исполнении этого монолога. Наоборот, все были в восторге от захватывающей сердечности, с которой читала свою роль Гюс. Даже пустенькая Жозефина, сидевшая в ложе с Баррасом и в начале пьесы прохаживавшаяся насчет головной боли Терезы Тальен, помешавшей подруге Барраса быть на премьере, была захвачена звучными стихами пьесы и красивым исполнением.
Но вот снова входит Лиана, докладывая о графе Честере. Елизавета приказывает впустить его. Появляется Честер. По зрительному залу пробегает шепот. В чем дело? Почему у Тальма такой странный, недовольный вид, который сразу бросается в глаза самому ненаблюдательному зрителю? Из зрителей никто не знает этого. Зато знают актеры. Вангов уже успела шепнуть Тальма, что Гюс позорно пьяна и что от нее разит, как из винной бочки.
Елизавета благосклонно приветствует Честера, произносит хвалебный дифирамб его геройству и приказывает Лиане оставить их одних. Лиана уходит.
Вот тут-то разыгралась позорнейшая сцена, небывалая еще в летописях «Комеди Франсэз».
По пьесе Елизавета должна плавно встать, подойти к Честеру, заглянуть ему в глаза, положить руку на плечо. Тут именно страсть вдруг прорывается у влюбленной королевы и стоном кажется фраза: «О, мой Честер!», насквозь пронизанная зноем, желанием и трепетом. Как потрясающе удавалось это место Адели на репетициях!..
Елизавета встает, но не плавно, а резко, угловато, встает… и вдруг пошатывается. Неровным шагом подходит она к Честеру, заглядывает ему глаза.
Но что это с Тальма? Он резко отворачивается от артистки, и видно, что его губы шепчут ей что-то, от чего Гюс вдруг замирает, словно пораженная молнией.
Пауза, бесконечная, жуткая, томительная пауза «О, мой Честер!» – шепчет суфлер, думая, что Гюс от волнения забыла реплику. «О, мой Честер!» – повторяет он громче. «О, мой Честер!» – надрывается он на весь театр.
Кое-где уже слышатся смешки. Королева Елизавета нервно трясет головой, вытягивает шею, и видно, как конвульсивно содрогаются ее губы, почти с нескрываемым бешенством. Елизавета еще сильнее вытягивает шею, ее лицо дергается; видно, что она заставляет себя побороть судорогу, стиснувшую горло. Вот она раскрывает рот и… на весь зал несется громкое, судорожное «Куак!».
Тальма невольно отскакивает на шаг назад, бедная королева Елизавета напрягает все свои силы, и снова на весь зрительный зал несется все то же бессмысленное «Куак!».
Тальма делает резкое движение и поворачивается, чтобы уйти со сцены. Но под грохочущий смех зрителей Гюс кидается к нему, хватает его за рукав. Тальма резко отшвыривает от себя артистку и убегает. Из-за кулис слышится его бешеное: «Занавес!»
Словно оглушенная, стоит посредине сцены, схватившись за голову, бедная королева; стоит, пока занавес под смех зрителей медленно задергивается; стоит, пока кто-то из администрации объявляет «почтеннейшей публике», что «по болезни артистов» спектакль отменяется и публика приглашается получить деньги обратно.
Кто-то дергает Адель за рукав. Она дико озирается кругом и, пошатываясь, идет со сцены. В коридоре она наталкивается на Тальма. При виде Гюс у него вся кровь кидается в голову, он сжимает кулаки и кидается к ней с криком:
– А, подлая пьяница! Пропила спектакль! Не могла дождаться ночи, только бы добраться до вина! Негодница этакая! Так отблагодарить за все мои хлопоты, участье, заботы!
С душераздирающим криком кидается Адель к трагику.
– Не говори так! – задыхаясь, не помня себя, стонет она. – Не вино, о, нет, не вино… Любовь к тебе лишила меня силы и разума! Божество мое! Твоя близость лишает меня сознанья и власти над собою! За один только ласковый взгляд твоих чудных глаз я рада отдать жизнь и кровь!
В группе артисток, наблюдавших эту сцену, слышится смех. Тальма вспыхивает еще больше и еще бешеней кричит:
– Ах ты, старая развратница! Да как ты смеешь говорить мне такие гадости! Будь проклят тот час, когда в моем сердце шевельнулась жалость к твоей убогой старости! Калека, пьяница!.. В гроб смотрит – и еще смеет думать о мерзостях! Да кому ты нужна, старая развалина!
Из угла выходит Гаспар Лебеф. Он подходит к Адели, берет ее под руку и говорит:
– Довольно унижений, Адель! Ты слышала? Богатый и счастливый не знает жалости к бедному и несчастному. Пойдем домой, Адель!
При этих ласковых словах Гюс вся съеживается в комочек, начинает трястись, словно осиновый лист, и детски-беспомощным голосом повторяет:
– Да, да, домой, братишка, домой!
Никто больше не смеется… В группе артисток, еще недавно смеявшихся, теперь никто не поднимает головы, не решается взглянуть друг другу в глаза. Им стыдно… Чего? Разве они неправы?
Должно быть, им стыдно того, что они так бесконечно правы перед этой искалеченной женщиной!
XIII
Зрители горячо обсуждали происшедшее. Никто не мог понять, что случилось. Правда, в первый момент весь зал был охвачен припадком сумасшедшего смеха, но когда рассеялось впечатление от внешнего комизма положения, все стали недоуменно пожимать плечами. Истину никто не мог угадать, и, может быть, поэтому ни у кого не нашлось слова сочувствия для Аделаиды Гюс. Наоборот, большинство сурово осуждало дирекцию, решившуюся дать дебют артистке, давно уже конченной для сцены.
В ложе Жозефины Богарнэ тоже не нашлось словечка сочувствия для нечастной Аделаиды Гюс.
– Я всегда говорила, что было бесконечным безумием выпустить эту развалину на сцену! – воскликнула Жозефина. – Тальма просто смешон со своими вечными увлечениями. Носился, носился он со своей Гюс, ну вот и пожалуйте! Но кого мне от души жаль, так это Ренэ Карьо! Бедный мальчик возлагал страшно много надежд на свою пьесу; еще вчера он говорил, что в случае провала «уйдет из мира». В монахи он, что ли, поступит? А досаднее всего, что теперь не знаешь, куда себя девать! Ужасно я этого не люблю! Все пошло прахом: и вечер пуст, да и ужин у Тальма обещал быть очень интересным. Ну что теперь делать?
Сказав это, Жозефина с капризной гримаской посмотрела на Барраса. У директора слегка дрогнула губа, глаза плотоядно блеснули.
– Знаешь что, Иейетточка, – сказал он, близко наклонясь к креолке, – если ты не имеешь ничего против, то поедем ко мне. Мы мило поужинаем и… можем возобновить тот самый интересный разговор, докончить который нам уже три раза мешала Тереза! Надеюсь, что сегодня она нам не помешает. По правде сказать, мне этот вечный надзор порядком надоел. Ну, так едем?
Глаза Жозефины вспыхнули радостью.
– Но помилуй, дорогой Поль, – ответила она, ласковой кошечкой прижимаясь к нему, – когда же я отказывалась вести с тобой «интересный разговор»? Я… буду очень рада, если на этот раз Тереза не помешает нам.
– А я еще больше! – весело подхватил Баррас, увлекая креолку к выходу. – Я опять совершил большую неосторожность и недавно снова посвятил Терезу в большой секре… Уж и сам не знаю, что это на меня нашло, но теперь дело непоправимо. Тереза, овладев моими тайнами, все самодержавнее управляет мною. Во всяком случае именно в данный момент мне было бы неудобно дразнить ее… А ведь знаешь, Иейетта, почему-то Тереза опасается только тебя! Тебе это должно льстить! Однако вот и экипаж!