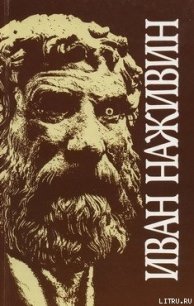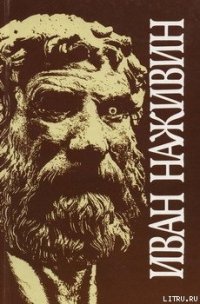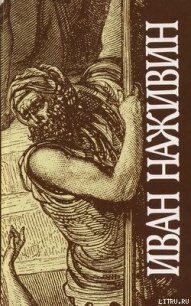Глаголют стяги - Наживин Иван Федорович (серия книг TXT) 📗
Во ржи было душно, как в печи. Пахло нагретой соломой и васильками. От нечего делать Запава стала вить себе из синеньких пахучих цветочков венок, и чутко слушала, и зорко смотрела к лесу: не идёт ли он? И было жутко немного: как раз об эту пору, к полдням, выходят из хлебов полудницы и всех опозднившихся в полях засекают своими острыми серпами. Но теперь ей всё равно… Куропатка со своим многочисленным выводком набрела на неё, и долго все они стояли, вытягивая шейки и робко глядя на неё, а потом вдруг быстро-быстро разбежались по ржи. И выбежала крошечная серенькая землеройка… А в небе глубоком, чуть затянутом дымом от горевших вдали лесов, плыли, точно ладьи по морю, белые облака и носились со щебетаньем ласточки. Так вокруг всё ясно и мирно, а в душе — осенняя ночь. И на нежно-голубых глазах Запавы проступили слезы жалости к самой себе…
Ядрей с небольшой добычей — видно, и леший гневается на него, — повесив голову шёл домой. Солнце поднималось уже к полудню, и он прибавил шагу. В полдень все спит — и человек, и скот, и птицы, и леса, и травы, — и негоже бывает тому, кого этот час застанет вне дома… Вот и опушка леса с погоревшей от засухи травой, вот и хлеба, и…
Он вздрогнул, остановился, и волосы на голове его зашевелились: из золотого моря ржи в венке из васильков поднялась вдруг страшная полудница!.. И он поразился: Запавой оборотилась, лукавая… И со всех ног он бросился к посёлку…
— Ядрей!.. — простонала полудница, простирая к нему руки. — Ядрей, солнышко ты моё красное… Милый…
Но он, не оглядываясь, — оглядываться в таких случаях самое последнее дело, — нёсся к селу… И полудница, закрыв лицо руками, с жалким плачем упала в борозду…
Задыхаясь, он прилетел в свою новую избу. Дубравки дома не было: готовясь к зажину, у своих, должно быть, была. Чтобы не быть одному, он пошёл по жену. У околицы стояла пёстрая толпа молодёжи. Он свернул к ней, чтобы удостовериться: там Запава или нет? Она была тут, бледная, с опущенными и как будто заплаканными глазами, и на пепельно-белокурой головке её с тяжёлой косой был привядший уже венок из васильков! И Ядрей прямо не знал, что думать… Но он не смел ни подойти к Запаве, ни даже смотреть в её сторону: Дубравка, смуглая, жгучая, с огневыми глазами, была уже около него…
Со всех концов посёлка торопился народ. Все любовались крошечной девчуркой в чистой рубашонке, в цветах: это она должна была сегодня изображать колосок. И вот молодёжь, схватившись за руки, парами стала вдоль дороги от околицы к ниве. Кто-то поднял девчурку и поставил её в начале этого моста из рук, и она, неловко взмахивая от боязни ручонками и смеясь всем своим загорелым, в ямочках, личиком, пошла по рукам вперёд. Пары, мимо которых она уже, прошла, быстро перебегали вперёд, чтобы удлинить мост, чтобы дотянуть его до самой нивы. И весёлый колосок, колеблясь, шёл вперёд и смеялся. А молодёжь пела:
И колосок докатился до нивы, и тотчас же одна из девушек, присев, стала завивать Велесу бороду из колосьев, а хор пел:
И все, опалённые солнцем уже на сеножатях, ярко-пёстрые, согнувшись с серпами к ниве, взялись за жатву. И Ядрей вдруг ахнул: на зелёных бусах Дубравки, среди молодых загорелых грудей, висел его медный крестик, который дали ему попы цареградские при крещении!
— Это откуда у тебя?
— А что? — весело оскалила она на него все свои белые зубы. — Я у тебя в суме нашла… А чего это?.. Ляпа болтал, будто это бог киевский новый… Да, чай, врёт, бахвал… А осерчал он всё же здорово!..
У Ядрея под ложечкой засосало. И тёмная, лесная тревога сжала его сердце. Он споро вязал снопы за Дубравкой, ставил крестцы, но думал всё об одном.
— Да ты бросила бы его… — хмуро сказал он жене.
— Ну, что ты?.. — поправляя сбившийся на сторону плат, отвечала она весело. — Я вот домой приду, начищу его песком — как огонь гореть будет!.. Гоже…
С этого дня начали по посёлку слухи ползать, что вот занёс Ядрей в леса какого-то чужого бога, может, и засуха-то оттого, что боги прогневались на это… И при встрече с Ядреем пожилые люди хмуро отвёртывались в сторону. И это тёмное, лесное нарастало так, что и Дубравка встревожилась и сняла с шеи своего медного божка.
— Да зачем ты принёс-то его?.. — спросила она раз мужа за вечерей.
— Зачем, зачем… — осерчал и без того встревоженный Ядрей. — Любопытно было, вот и захватил напоказ… Привяжутся тоже…
Она весело осклабилась:
— Ты чего, ещё серчаешь? Я нешто тут виновата? Сам занёс, а я отвечай… Да я его в печурку сунула — пущай там сидит себе в тепле…
И когда селяки кончили жатву и молодёжь весёлой толпой, с песнями и плясками, понесла в село последний сноп, житного деда, духа нивы, в избу Ядрея хмуро шагнули вдруг двое из стариков и худой, всегда, несмотря на молодость, значительный Ляпа.
— Вот что, Ядрей, зла мы на тебя не имеем… — сказал Ляпа, стараясь не смотреть Ядрею в глаза. — А только бога твоего ты нам отдай: мы хотим сносить его к деду Боровику. Может, против него заговор какой есть… Хлеба-то, почитай, все пропали. А такого дела у нас и старики не помнят…
— Я не знаю, куда его Дубравка дела… — слегка побледнев, отвечал Ядрей. — А, да вот и сама она…
Дубравка, потная, красная, весёлая, — уж и поплясала же она вкруг житного деда! — ворвалась в избу и вдруг осеклась. Ядрей хмуро, в двух словах сказал ей все. Пошарив в печурке, она вынула завёрнутого в тряпочку бога и передала его Ляпе. И хмуро все трое задвигали лаптями в лес к Боровику. Дубравка — она была встревожена — молча сделала знак мужу и унеслась за ними. И из-за тына стала она тревожно слушать, что мужики промеж себя говорить будут.
Выслушав поселян, Боровик тихонько рассмеялся.
— Никаких других богов, кроме наших, нету, — добродушно сказал он. — Какой же это бог? Так, видимость одна… Нет, нет, никакой вреды от него быть не может. Не замайте.
Селяки простились и молча вышли. И зашагали по солнечной дороге среди старых сосен и густого молодого подседа. И вдруг Ляпа у лав через ржавчинку остановил стариков.
— Нет… — решительно сказал он. — Что там дед ни говори, а так оставить это нельзя… Почему же раньше засух не бывало?.. Ядрей лукавит. Может, и он уже прикачнулся к новому богу. В Киеве таких лоботрясов не мало, которым на веру дедовскую наплевать. А мы должны беречи её накрепко…
Ляпа к этим делам был совсем равнодушен раньше, но теперь он вдруг очень принял их к сердцу.
— Так чего же мы с ним делать будем? — сказал тихо один из стариков, похожий на старый пень, забытый в лесу.
— А что делать?.. — сказал Ляпа. — Возьмём да и убьём, как он на зверовья пойдёт или на птицу кляпцы ставить… Я уж дело обделаю сам… А эдак что же это будет?
У Дубравки сердце вдруг захолодало, и, не помня ничего, она обходами неслышно понеслась на посёлок, и жарко обняла встревоженного Ядрея, и рассказала ему все. И то собирала ему наскоро суму в дорогу, а то снова бросалась к нему, и прижималась, и плакала, и шептала:
— Ты иди хошь в Киев пока… А там, как дела по-другому обернутся, опять придёшь… А то я к тебе с плотовщиками приеду… А сейчас уходи, уходи скорее!.. Ляпа не отвяжется теперь: это он за меня с тобой счёты сводит, долговязый… Скорее, скорее, сокол ты мой ясный… Если ты любишь свою Дубравку, скорее!..