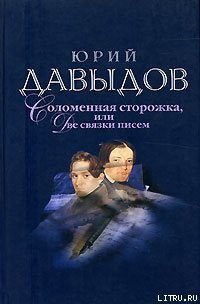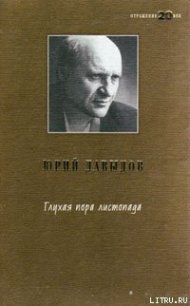Март - Давыдов Юрий Владимирович (полные книги .TXT) 📗
К заключенным прежних времен Александр ничего не испытывал. Они давно получили свое полной мерою, да и почти все уж перемерли. Но «известный арестант»… О, тут было совсем другое. Этот представлялся ему олицетворением нынешних террористов, хотя этот и не закладывал мин. «Известный арестант» часто занимал его мысли. Александр старался вообразить муку заживо погребенного. Иной раз Александру казалось, что он и этот связаны незримыми нитями.
Вот уже семь лет изжил в равелине «известный арестант», или «нумер пятый», и семь лет, из месяца в месяц, император читал о нем рапорты коменданта крепости и Третьего отделения. Александр мог бы давно свести в могилу «нумера пятого», но Александр не желал его смерти. Другие пусть умирают на эшафоте, но не этот. Этот был его личной, неотторжимой собственностью, он приберегал «нумера пятого» с неизъяснимым, безотчетным упрямством.
Однако до сего дня Александр никогда не видел «нумера пятого». И только нынче, в соборе, стоя на коленях перед иконостасом с двадцатью девятью иконами, стоя на коленях рядом с тем местом, где погребут его самого, он решился взглянуть на «известного арестанта». Если бы не вчерашнее… Он и теперь еще ощущал подергивание лицевых мускулов и металлический привкус слепящего ужаса… Если бы не вчерашнее, он, быть может, и не пошел в Алексеевский равелин. Но после вчерашнего… После вчерашнего не мог не пойти. Почему? Отчего? Тут крылось что-то смутное, какой-то надрыв, – он не умел объяснить, хотя сейчас и почувствовал некоторую неловкость и что-то постыдное в своем внезапном решении.
Каменный коридор отозвался на его грузный шаг тревожным гулом.
– Пожалуйте сюда, ваше величество.
Ни комендант, ни смотритель не совались вперед, а, подскакивая бочком, указывали пальцем.
Александр приблизился к железной двери. Он один приблизился к двери, за которой был его «известный арестант». И вдруг Александр, пригнувшись, с подлым, проказливым, ему не свойственным передергом, подался всем своим крупным телом к двери и осторожно, точно боясь ожога, пальцем тронул задвижку «глазка».
Этот стоял посреди каземата. Небольшого росточка, с бородкой на бескровном лице. За спиной светлело окно с переплетом из толстых, дубовых брусьев. Дубовые брусья означались как распятие. Этот был распят.
И Александр получил то, чего жадно ждал: пронзительное чувство отмщения.
Когда император садился в экипаж, зимнее небо роняло тяжелозвонкий бой курантов.
Глава 11 БЕЗЫМЯННЫЙ УЗНИК
Куранты вызванивали медленно: «Боже, царя храни…»
«Навсегда!» – повелел царь. И подчеркнул пером: «навсегда». Навечно, в Алексеевский равелин, как мертвецов в собор, куранты которого медленно вызванивают: «Боже, царя храни…»
Семь лет назад, в Москве, человек, привязанный к позорному столбу, кричал: «Долой царя! Да здравствует свобода!» Семь лет назад царь повелел: «Навсегда». Из Москвы осужденного везли в отдельном вагоне. Не прямиком везли в невскую столицу, кружили: Смоленск – Витебск – Динабург… Семь лет назад смотритель Алексеевского равелина сломал сургучные печати казенного пакета и прочел:
Лишенного всех прав состояния бывшего… (несколько слов смотритель не разобрал, они были густо вымараны) предписываю содержать в каземате под № 5 под самым бдительным надзором и строжайшею тайною, отнюдь не называя его по фамилии, а просто нумером каземата, в котором он содержится.
Куранты вызванивали медленно:
Прежде, до появления «нумера пятого», равелин охраняли солдаты караульной команды. Когда доставили безымянного узника, под своды Алексеевского секретного дома вошли жандармские унтер-офицеры. Они присматривали и за арестантом, и за солдатами-караульщиками. И впервые замер часовой под самой решеткой, у окна каземата.
Каждую пятницу шеф жандармов получал рапорты:
Арестованный в доме Алексеевского равелина под №5 вел себя покойно и вообще вежлив. Регулярно вечером ложится спать в 10 и утром встает в 7 часов. Уборка № производится без изменения прежним порядком. Утром в 8 ? часов – чай, в 12 ? часов – обед, а в 6 часов вечера – чай. Днем и вечером до сна читает. Ходит и редко ложится на кровать. Все благополучно.
Арестованный в доме Алексеевского равелина под № 5 вел себя покойно, читал. Все благополучно, кроме 19 числа, в первый день поста, когда был подан ему обед постный, на каковой взглянув, подобно хищному зверю, отозвался дерзким и возвышенным голосом с презрительною улыбкою: «Что это меня хотят приучить к постам и, пожалуй, говеть? Я не признаю никакого божества, у меня своя религия!» После этого сделался совершенно молчалив. Постоянно ходит в задумчивости. Все благополучно.
И вот такие еженедельные рапорты фельдъегери в числе прочих важнейших бумаг возили в Ливадию, в Царское Село, за границу, повсюду, где был государь император.
«Все благополучно», – и вдруг, как из-за гробовой доски, раздался голос «нумера пятого». На имя императора Александра написал он пространную записку, отрицая право русского правительства держать его взаперти.
После этого узника лишили бумаги и чернил. Он закричал, выбил стекла. Его спеленали смирительной рубахой, сыромятными ремнями прикрутили к койке. А в следующую пятницу очередной рапорт гласил:
Сего числа, в 8 часов утра, на содержащегося в Алексеевском равелине известного арестанта надели ножные и ручные кандалы при полном спокойствии.
В железах сидел он год семьдесят шестой, в железах – год семьдесят седьмой. Кровь и гной наплывали на кандалы. Когда в каземате слышался – как сейчас – полуденный бой курантов, «нумер пятый» подходил к дверям, и караульные притаивали дыхание – он погромыхивал цепями: «Царь пра во славный…»
Потом говорил громко, будто сам с собою, и часовые опять напрягали слух.
– Вот он, царь-то! Вот он, милостивец! А? Велика ль его царская милость? Вот судьба! Вот будь честным человеком! За солдата, за мужика – а тебя на цепь, как собаку, и этого же темного дурака сторожить приставят.
Семьсот дней, семьсот ночей въедалось в его плоть кандальное железо. И кандалы ржавели не от сырости каземата – от сырой человечины.
О «полном спокойствии нумера пятого» читал император в донесениях Третьего отделения, но Александр не мог забыть записку «известного арестанта», возвещавшего близость революции и падение династии.
Семьсот полдней отзванивали куранты, семьсот полдней погромыхивал узник цепями: «Царь пра-во-славный…» Но погромыхивал все слабее. И тогда Александр спохватился: нет, нет, он не желает терять своего арестанта. Ведь все будет кончено, труп выдадут ночью полиции, полиция бросит труп в яму у ограды Преображенского кладбища.
Нет, нет, Александр не хотел расставаться со своим «нумером пятым». Кандалы сбили. Книги? Пожалуй, можно и книги. Пусть бередят душу, напоминая о мире, где солнце и женщины.
Семь лет изжил «нумер пятый» в Алексеевской равелине. Нынче опять слышал полуденные куранты:
И ударила – как шар лопнул – сигнальная пушка: день переломился.
Узник отличал, как отличаешь почерк, шаги каждого караульного. Но только что он слышал чью-то грузную поступь, не знакомую ему совершенно, и видел чей-то глаз, пристальный, немигающий.
Узник мерил келью. Он вдруг подумал: свершилось – баррикады, флаги, ликующие толпы. Потерпи немного, совсем чуть, победители идут. Картина высветилась перед ним ярко, ослепительно, в подробностях и в громадности своей.
И все мгновенно отодвинулось и померкло, и явилось иное, с той стремительностью перемены мыслей и чувств, какое бывает лишь в одиночках. Он решил, что нынче его должны отравить. Да, да, нынче убьют его. Не казнят на эшафоте при стечении народа, а подло отравят. Отравят, как крысу.