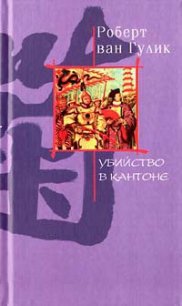Завоеватели - Мальро Андре (читаем книги TXT) 📗
— Что?
— Ты знаешь, что банкир Сиа Чеу убит?
— Ножом?
— Нет, пуля попала в голову, когда мы обходили мосты.
— Ты думаешь, что это Гон?
— Не думаю, а знаю.
— Ты сказал ему, чтобы он прекратил…
— Да, от твоего имени и от имени Бородина. Кстати, Бородину лучше, и он наверняка скоро появится. Но Гон действует теперь только на свой страх и риск.
— Он знал, что Сиа Чеу нас поддерживал?
— Прекрасно знал, но для него это не имело значения. Сиа Чеу был слишком богат. Грабежа не было, как обычно…
Ничего не говоря, Гарин качает головой. Мы уходим.
Я сопровождаю Николаева, беру у него в отделе досье с последними сообщениями из Гонконга и снова спускаюсь вниз. Когда я вхожу в отдел Гарина, я сталкиваюсь с Гоном, собравшимся уходить. Гон говорит с очень сильным акцентом, почти тихо, но в его голосе угадывается плохо скрытая ярость.
— Вы можете выносить суждение о том, что я пишу. Ладно, согласен. Но вы не можете судить мои чувства. Пытка, я считаю, тут справедлива. Потому что жизнь бедняков — это продолжительная пытка. И тех, кто учит её терпеть — христианских священников и других, — нужно наказать. Они не ведают, не ведают. И я считаю, что следовало бы их заставить (подчёркивая эти слова, он делает жест, как будто наносит удар) понять. Двинуть против них не солдат, нет. Прокажённых. Одного из тех, чья кожа на руках разлагается и течёт. Другие будут мне говорить о покорности судьбе. Ладно, путь так. Но если послушать прокажённого, он рассуждает по-другому.
Гон уходит, улыбаясь, и эта обнажающая зубы улыбка внезапно придаёт его исполненному ненависти лицу почти детское выражение.
Встревоженный Гарин задумывается. Когда он поднимает голову, наши глаза встречаются.
— Я предупредил епископа, — говорит он, — об опасности, которой подвергаются миссионеры. Необходим их отъезд. Отъезд, а не резня.
— Ну и что же?
— «Надлежащие меры предосторожности будут приняты, — велел он мне передать. — Что же касается прочего, то мученичество нам дарует или отказывает в нём Господь Бог. Да будет на то его воля». Кое-кто из миссионеров уехал.
Пока Гарин говорит, его взгляд скользит по письменному столу и останавливается на одном из тех бланков с донесениями, которые лежат в папке…
— А-а, Чень Дай перебрался из мастерской фотографа и обосновался на вилле, которую один уехавший друг предоставил в его распоряжение… И этот благоразумный человек вчера вечером попросил предоставить ему военную охрану. Ах, насколько было бы лучше заменить Комитет семи более надёжным комитетом с диктаторскими полномочиями и создать Чека вместо того, чтобы рассчитывать на людей вроде Гона… У нас много дел!
— Что ещё? Да, войдите!
По поручению одного из уполномоченных вестовой приносит шёлковый свиток, присланный из Шанхая. На свитке — приветствие, старательно выведенное тушью.
Внизу — нечто вроде постскриптума, написанного более светлыми чернилами и более грязно:
«Мы (следует четыре имени) подписали это своей кровью, после того как каждый разрезал себе палец. Мы это сделали, чтобы засвидетельствовать своё восхищение нашими соотечественниками в Кантоне, которые дерзают отважно бороться против империалистической Англии. Таким образом, мы свидетельствуем им своё уважение и рассчитываем, что борьба будет продолжаться до полной победы. Подписали (дальше следует множество подписей, по одной от секции)».
— До полной победы, — повторяет Гарин. — Декрет, декрет, декрет! Всё зависит от него. Если мы решительно не воспрепятствуем судам Гонконга заходить сюда, нам в конце концов свернут шею, несмотря ни на что.
Он берёт со стола стопку донесений из Гонконга. В ней только просьбы о денежной помощи.
— А пока существует только один выход, — продолжает он, — отказ от всеобщей стачки. В конце концов, вся Азия внимательно следит за борьбой, в которую мы вступили, и довольно того, что в глазах всех Гонконг останется парализованным. Одной только общей забастовки докеров, матросов и грузчиков — под наблюдением профсоюзов — будет вполне достаточно. Гонконг, лишённый рабочих рук, стоит Гонконга обезлюдевшего, но тут нам нужны деньги Интернационала. Очень нужны!
И Гарин начинает составлять докладную записку Бородину, потому что решения, обязательные для Интернационала, принимаются Бородиным. От света, падающего на склонённое лицо Гарина, резко обозначаются все его выпуклости и морщины. И вновь выступает на первый план та сила, которая в Азии является древнейшей: больницы Гонконга, покинутые персоналом, переполнены больными. И на бумаге, которую солнечный свет окрашивает в жёлтый цвет, ещё один больной пишет другому.
2 часа
Новая тактика Гона до крайности тревожит Гарина. Он рассчитывает, что Гон избавит его от Чень Дая. Из донесений осведомителей Гарин знает, что Гон начнёт действовать, не дожидаясь постановления об аресте. Уверенность в том, что полиция пока ещё не против него, заставляет его предпринимать быстрые действия. Однако Гарину ничего не известно о том, какими же они будут.
— В Гоне, — говорит мне Гарин, — проступает с некоторых пор странное существо. За наружной культурой, которая состоит лишь из размышлений над кое-какими зажигательными идеями, извлечёнными по случаю из книг и разговоров, в нём живёт необразованный китаец. Китаец, не умеющий различать иероглифы, поднимает голову и начинает подавлять того, который читает французские и английские книги; и это новое существо находится в полной зависимости от своего неистового характера, молодости и единственного опыта, который у него был, — опыта нищеты… Отрочество Гона прошло среди людей, нищета которых создавала особый мир вблизи предместий больших городов. Там было много больных, стариков, людей, утративших силы по той или иной причине, тех, которые умирали однажды от голода, и тех, гораздо более многочисленных, которых скудная пища поддерживала в состоянии умственного отупения и постоянной слабости. Люди, всецело поглощённые тем, чтобы добыть себе хоть какое-то дневное пропитание, деградируют до такой степени, что в душе у них не остаётся места даже для ненависти. Всё рушится: способность чувствовать, желать, сознание своего достоинства. Едва лишь возникают то тут, то там слабые порывы злобы и отчаяния, когда над грудой лохмотьев и тел, свернувшихся в пыли, появляются эти лица, эти глаза, прикованные к еде, которую раздают миссионеры… Однако есть среди них и другие, те, которые становятся при случае солдатами или грабителями. В них, способных ещё на какой-то порыв, на сложные комбинации, чтобы устроить над кем-то расправу, гнездится стойкое чувство ненависти и братства. Они живут с этим чувством в ожидании тех дней, когда покорные толпы окажутся готовы позвать себе на помощь громил и поджигателей. Гон освободился от нищеты, но он не забыл её урока. Не забыл он и того жестокого, полного бессильной ненависти образа мира, который нищета вызывает к жизни. «Существуют только две расы, — говорит Гон, — от-вер-жен-ные и все остальные». Отвращение к людям, обладающим властью и богатством, возникшее у Гона в детстве, таково, что сам он не стремится ни к власти, ни к богатству. Мало-помалу, по мере того как Гон удалялся от своего «Двора чудес», он обнаружил, что ненавистно ему вовсе не благополучие богатых, но то чувство уважения, которое они испытывают к собственной личности. «Бедняк, — говорит Гон, — не может себя уважать». Он смирился бы, если бы, подобно своим предкам, считал, что существование человека выходит за рамки его собственной жизни. Но привязанный к настоящему всей той силой, которую порождает открытие смерти, Гон не хочет смиряться, не пытается понять, не вступает в споры. Он ненавидит. Для него нищета — нечто вроде сладкоголосого беса, который беспрестанно доказывает человеку, что он низок, малодушен, слаб, предрасположен к падению. Вне всякого сомнения, Гон прежде всего ненавидит людей, которые себя уважают, уверены в себе. Невозможно сильнее взбунтоваться против собственной расы. Ведь именно отвращение к респектабельности, китайской добродетели по преимуществу, и привело Гона в ряды революционеров. Как у всех тех, кого одушевляет страсть, за всем, что он говорит, чувствуется внутренняя сила, которой и обусловливается его влияние. Это влияние особенно возросло благодаря непомерной ненависти Гона к идеалистам, к Чень Даю в частности. Этому чувству ошибочно приписывали политические причины. Гон ненавидит идеалистов, потому что они намереваются «согласовать все интересы». Но Гон вовсе не хочет, чтобы интересы были согласованы. Он вовсе не хочет отказываться от своей нынешней ненависти ради какого-то сомнительного будущего. Он с яростью говорит о тех, кто забывает, что человеческая жизнь уникальна, и предлагает людям жертвовать собой ради своих детей. Он, Гон, не из тех, у кого есть дети, кто жертвует собой и кто стремится быть правым в глазах других, а не перед самим собой. Пусть бы Чень Дай, говорит Гон, попробовал добывать себе пищу, как другие, близ сточных канав. Он бы лучше узнал, что за удовольствие — слушать почтенного старца, рассуждающего о справедливости. Гон видит в беспокойном старом вожде только того, кто во имя справедливости намеревается отнять у него право мести. Обдумывая туманные откровения Ребеччи, Гон приходит к выводу, что слишком много людей позволяют отвлечь себя от своего единственного призвания ради какого-то призрачного идеала. У него, Гона, нет намерения закончить свою жизнь агентом по рекламе механических игрушек, он не даёт старости завладеть собой. Услышав стихи какого-то китайского поэта с Севера: