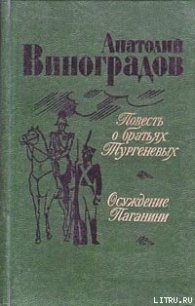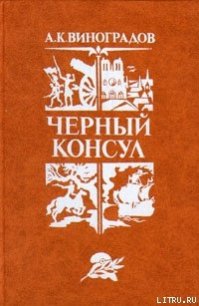Повесть о братьях Тургеневых - Виноградов Анатолий Корнелиевич (читать лучшие читаемые книги .txt) 📗
– Знаю, – ответил Вяземский. – Мы ставили его балеты в Остафьеве. Я тебе говорил, что по легкости, по изяществу пастушеских идиллий это лучший балетный постановщик. Недаром государь его так любит. Он в шутку говорил, что хочет Новерра сделать министром балета.
– А какую прелесть издал он у Августа Семена! – воскликнул Тургенев. – Эти четыре тома «Lettres sur les danses» [15] составляют честь молодого автора.
– Ты великодушен, – сказал молодой Вяземский. – Ты не только прощаешь похитителя, но еще находишь силы им очаровываться. Однако что же мы с тобою стоим? Птичка улетела, и нам надо идти.
– Куда? – спросил Тургенев. – Домой идти не хочу.
– Ну, поедем ко мне.
Взяли извозчика, поехали. Дорогой Петр Андреевич Вяземский рассказывал о последней охоте зимою, по снегу, на лыжах, говорил о том, как в Остафьеве лося загнали на птичий двор, как он там передавил кур, перебил стекла в сторожке и поранил кучера, говорил о том, как ночевал на мельнице, на речке Сетуни, за Кунцевом.
– Мельничиха – красавица замечательная. Возится с двумя детишками, ведет свое хозяйство, но мучительно страдает от мужа, без просыпу пьяного мельника. Я потому это тебе говорю, – продолжал Вяземский, – что напрасно Катерина Семеновна, твоя матушка, таких красивых крепостных девок продает на сторону. Она тебе могла бы пригодиться.
– Ты вздор говоришь, Петр! Даже не знаю, про кого ты говоришь!
– Как не знаешь! Марфушу, вероятно, помнишь.
Тургенев привскочил на сидении.
– Как ты говоришь? Марфуша?
– Ну да, она же мне сказала, что она от господ Тургеневых.
– Боже мой, чего только матушка не наделала в своей жизни!
– Да, крутой характер у Катерины Семеновны, – заметил Вяземский.
Приехали на московскую квартиру Вяземского. Сначала пили чай с красным вином, потом красное вино и болтали без умолку. Вяземский был собеседник умный, интересный. Он знал все столичные и московские новости, рассказывал Тургеневу о том, как «двигается отечество по пути к славе».
– Ты вот не смейся, но через год будет у нас конституция. Царь хочет народоправства.
– Это что же, все этот польский князь Чарторыжский выдумал? Тоже, нашли доверять кому такое дело!
– Чарторыжский уж вовсе не такой плохой человек, как ты думаешь. А что из того, что он поляк? Не все ли равно, какой нации, лишь бы голова была не пустая и держалась бы не накривь вбок на плечах. Чуднее всего, что профессор Паррод выступает на защиту автократизма. Ты знаешь, он пишет, что в России только самодержавие и возможно. Пестрая французская публика в России, а сейчас так и понять невозможно, кто Бонапартов, а кто – сторонник короля и старого закона. Ты знаешь, частенько бываю я на Кузнецком. Там уже лет шесть водворился французский мещанин Готье, открыл книжный магазин, неизвестно откуда и какими путями получает книжки безо всякой цензуры, и собирается у него вся французская колония. Знаешь, по-моему, что-то они замышляют...
Вошел лакей со словами:
– Ваше сиятельство, первой гильдии купец Оссовский просит принять.
– Разрешишь? – обратился Вяземский к Тургеневу. – Ненадолго!
Вошел важный, осанистый человек, широкоплечий, с окладистой бородой, с широким носом, спокойными, умными серыми глазами. Осмотрелся в комнате, трижды перекрестился, найдя икону, и, держа в руках картуз, почтительно поклонился Вяземскому со словами:
– Здравия желаю вашему сиятельству!
– Зачем пришел? – спросил Вяземский. – Садись. Чаю хочешь?
– Покорнейше вас благодарим, ваше сиятельство, тороплюсь и утруждать вас не хочу. Дело у меня к вашему сиятельству небольшое. Двадцатого января еще подали мы всем московским купеческим обществом челобитие о том, чтобы господам иностранцам господа дворяне наших отечественников мужиков и баб не продавали, да и чтобы в Москве никакой бы продажи мужиков не было. До сих пор ответу никакого нет. Купечество московское бьет вашему сиятельству челом – походатайствуйте за сирых и бездомных! О себе, ваше сиятельство, скажу. Было у меня шестьдесят ручных станков в Питере. Делали мы хлопчатобумажную ткань. В нынешнем году поставил я аглицкую новинку, вот вроде как стоит у вашего сиятельства на столе самовар, ну, так у меня на фабрике – котел; только вот у вас сквозь самоварную крышку пар зря уходит, а мы его по трубам пускаем, в цилиндеры, а там валы да шестеренки ворочаются, ну, то, другое, пятое, десятое, смотришь – челнок и заработал. Хорошая эта штука – паровой двигатель! И обученные мастера у меня есть, да вот беда: прошел оброчный срок, и шестьдесят мужиков, самых моих лучших работников, уезжают к вашему сиятельству в деревню. Помилосердствуйте, ваше сиятельство, отпустите мне мужичков на годок.
– Что ж, я не прочь, – сказал Вяземский. – Мужикам-то не худо у тебя живется?
– Да уж известно хуже, чем у вас, ваше сиятельство: у нас ведь таких хоромов нету; спят они в домишке на Малой Неве, у Жукова моста, – сами знаете, что за места. Вошь да крыса до Елагина мыса!
– Ну, ну, – сказал Вяземский, – скажи Клементьичу, что я согласен. Сколько же у тебя этих паровиков?
– Пока четыре поставил, а потом неизвестно – что дальше.
Вяземский на минуту остановился. На лице было написано раздумье. Казалось, он колебался и старался не смотреть на Тургенева.
– А скажи-ка, Оссовский, – вдруг произнес он, – как, деньгами ты не богат?
– Сколько понадобится вашему сиятельству?
– Да мне тысяч десять на ассигнации нужно.
– Ох, ваше сиятельство, расстроился я, туго с деньгами, но уж для вас...
Оссовский снова присел, расстегнул поддевку, долго рылся за пазухой, наконец вынул бисерный, голубой, монастырский бумажник, грязный и засаленный по углам, достал оттуда отсыревшие пачки денег, отслюнил, подсчитал, положил перед собою и прикрыл рукой.
– На какой срок, ваше сиятельство? И, позвольте доложить, годовых – двенадцать процентов, иначе – никак невозможно. Ежели, к примеру, у Неваховича возьмете, так не иначе пятнадцать заломит.
– Ну, уж это ты врешь, – сказал Вяземский. – На прошлой неделе мой приятель у Неваховича из семи взял взаймы. Это ваша купецкая порода такая – обязательно свалить на чужую нацию свои ростовщические пороки.
– Как вашему сиятельству будет угодно. Невахович так Невахович – я своими деньгами не набиваюсь, – сказал Оссовский, в то же время подсовывая Вяземскому бланк вексельной бумаги.
Вяземский принес чернильницу. Написал вексель, просчитал деньги, швырнул их в секретер и мрачно посмотрел на Оссовского.
– Бывайте здоровеньки, ваше сиятельство, – сказал купец. – Ежели новые оброчники будут, явите божескую милость – пошлите мне. Вот вам крест животворящий, что к рождеству и к пасхе пришлю по штуке лучших мануфактур, чтоб видели вы, ваше сиятельство, что не зря у меня мужики на фабрике сидят.
Оссовский ушел.
– Бездоходно стало в деревне, – сказал Вяземский. – Вот ведь никаких земель не имеет, беспризорный корабельный мальчишка из Балтийского порта этот Оссовский, а какими деньгами ворочает... Что думаешь, ведь теперь политик, смотри, как о Бонапарте рассуждает, со свету сжить готов Бонапарта. А думаешь почему? Потому, что парусину ставит в Англию. Вот этакий мужичина, а на бирже речь произнес, говорит: «И моя копеечка не щербата, при Трафальгаре весь французский флот погиб, бурей парусину порвало, а моя, говорит, парусина на аглицких кораблях была, ее не то что ветер, а и пуля не берет. Я, говорит, над Бонапартом с англичанами победу одержал». Его купеческое общество посылало на открытие Березинского канала – знаешь, недавно, между Днепром и Западной Двиной.
– Знаю, – сказал Тургенев. – Тринадцать тысяч мужиков там полегло. В этом канале плотины и шлюзы из человеческих костей.
Наступило короткое молчание, прерванное приездом Василия Львовича Пушкина. Войдя с веселой шуткой, сверкая остроумием, слегка напевая и помахивая палевым шелковым платочком, надушенным и вышитым, Василий Львович быстро заставил молодых людей перейти на французский язык, и через пять минут комната огласилась дружным и несмолкаемым хохотом. На смену красному вину появились редереровские бутылки, закипело в бокалах французское аи, горы бисквитов в серебряной корзине быстро таяли благодаря дружным, усилиям Тургенева, Вяземского и Пушкина. В самый разгар пира приехал Василий Андреевич Жуковский. Привез с собою молоденького, безусого офицера русской службы. «Князь Ираклий Полиньяк», – представил его Жуковский. Минуту спустя все пели хором нравоучительную масонскую песнь. Тургенев силился припомнить что-то, глядел на Василия Пушкина, слушал звонкий голос поющего Василия Львовича, и вдруг с полной ясностью вспомнилась ему картина подземелья и масонского посвящения. Ведь это он смотрел на него. Это его голубые глаза глядели на Тургеневых из-под маски. Александр Иванович сделал условный знак, но в ответ Пушкин, продолжая петь, закачал головой и насмешливо улыбнулся. Когда песня кончилась, Василий Львович рассказал о своем приключении позапрошлой ночью.
15
«Письма о танцах» (франц.)