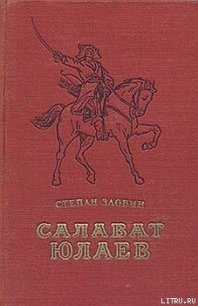Разин Степан - Чапыгин Алексей Павлович (читаем полную версию книг бесплатно .TXT) 📗
– Экое счастье! Сама благодать в мудрости твоей, князь Юрий. Так выпьем же за твое долголетие, Юрий Олексиевич, и не боюсь я, старичонко, что захмелею, что надо мне еще делы вершить. Толково берусь дослушать все, не как бражник кабацкой… Свет тебя неизреченный осиял…
– Вот, боярин, критское, две чаши, – ну, во здравие!
– Ой, князь! То негоже, позвоним-ка сперва чашами в твое долголетие!.. Вот так! Пью…
Старик хлебнул чашу крепкого вина, упал на скамью, закашлялся, схватил со стола чего-то, сунул в рот, медленно прожевал, отдышавшись, заговорил:
– И вот чего, князь Юрий, худым умишком я надумал: ладнее, чем нынче, время не искать! Покуда не охаял меня Морозов государю, взять заводчиков Разиных – вершить?
– Думаю о том же и я, боярин!
– Ивашку, князь, дошлешь, а Стеньку мои люди сыщут, сволокут в Разбойной… Ой, вишь, пора мне, Юрий Олексиевич, и век бы сидел с тобой, да заплечные работы ждут.
– Трудись о Русии, боярин, на дорогу прими совет!
– Все принимаю, князь, только скажи!
– С Ивашкой Разиным не чинись – верши… Отписку по делу тому дадим государю после – беру на себя. Другова хватай тайно, без шума. Ранее, чем кончить с бунтовщиком, доведи боярину Морозову: «Так-де и так – заводчик солейного сыскан, суд вершим, отписку по делу – после пытошных речей…» Тихо с бунтовщиком надобе оттого, что послан он войском, чтоб не было на Дону по нем смятенья, в чем, коли будет такое, обвинят, очернят нас…
– Так, князь Юрий! Так, то истинно…
Боярин вышел. Князь, проводив боярина до дверей горницы, крикнул:
– Егор! Наряди людей, боярину к возку огонь, в пути стражу…
Из глубины комнат голос ответил:
– Не изволь пещись, князь!
3
– Православные! У нас пироги, пироги горячие с мясом, – лик, утробу греть… зимне дело…
Торговец около лотка приплясывает в больших, запушенных снегом валенках, поколачивает о бедра кожаными рукавицами. Бородатая толпа в заячьих кошулях, в бараньих шубах проходит мимо… Иные в кафтанах, в сермяжном рядне.
– Пироги-и с мясом!
Из толпы высовывается острая бороденка:
– Поди, со псинкой пироги-то?
– Ты нищий, сам поди к матери-и!
– Кому оладьи? Вот оладьи! – кричит бас от другого лотка.
Толпа месит снег валенками и сапогами, торговцу с оладьями задают вопрос:
– Должно, перепил, торгован?
– Я, чай, русский, не мухаммедан, – пью!
– Песок, крещеные, с горы Фаворской, с Ерусалима! От кнутобойства и от всяких бед пасет…
– Эй, черна кошуля! Продавал бы ты мох с Балчуга в память первого кабака на Москвы…
– Еретик! Не скалься над святым, ино стрельцов кликну.
Все глубже по узким, кривым улицам снег. Прохожие черпают голенищами валенок белую пыль, садятся на выступы углов, на обмерзшие крыльца, выколачивают валенки, переобуваются… А то бредут почти разутые, в дырявых сапогах, в лаптях на босу ногу, – этим все равно.
В уступах домов – много торговцев с лотками: продают большие пряники на меду с изюмом, сухое варенье из черной смородины, похожее на подметки, калачи, обсыпанные крупной мукой. Между черными домами, крытыми тесом, с узкими слюдяными окнами, в широких прогалках деревянные заходы – шалаши с загаженными стольчаками. Вонючий пар висит по сторонам улиц.
Нескончаемо предпразднично гудят колокола, и звонок гул над низкими домами, а из Кремля, с вышины, из высоких соборов – свой, особенный, мрачно-торжественный гул.
Порой врывается шум мельничного колеса, иногда жалобный вой божедомов-нищих от ближней церкви:
– Ради бога и государя-а – милостыньку! Прохожие, крещеные, по душу свою и за упокой родни…
Толпа бредет густо, лишь кое-кто встает у лотков, пьет кипяток с медом, ест пироги, глотает оладьи.
– Избушка!
Едет на высоких полозьях карета, обтянутая красным сукном. Из кареты в слюдяное оконце видно соболью низенькую шапку с жемчугом и накрашенное пухлое лицо. Карету тянут пять лошадей, на кореннике без седла парень в нагольном тулупе, без шапки, взъерошенный, в лаптях на босу ногу.
– Дорогу-у боярыне!
– Везись, дыра, до чужого двора!
Около кареты топчутся челядинцы.
– Еще бы проехала такая!
– Воину идти легше, – отоптали!
Толпа слегка сжимается, уступая дорогу волосатому, густобородому попу в камилавке, в заячьей кошуле, с крестом на груди; лицо попа красное, руки, ноги – вразброд.
– Окрестил кого, батько?
Поп лезет на вопросившего:
– Ты, нехристь, мать твою двадцатью хвостами, чего не благословляешься, а?
Человек от попа пятится в толпу, поп норовит поймать человека за рукав.
– Стой! Невер окаянной…
Человека от попа заслоняет высокий, широкоплечий, в синей казацкой одежде, под меховым балахоном на ремне по кафтану сабля, на голове красная шапка с узкой бобровой оторочкой.
– Посторонись-ко, сатана! – Казак отодвигает сильной рукой попа в сторону.
– Чего лезешь? А, ты попа сатаной звать? Эй, государевы!
Казак толкает попа в грудь кулаком, звенит цепь креста, поп падает на колени, поддерживает рукой камилавку, стонет:
– Ра-а-туй-те!
Бойкий низкорослый мастеровой в фартуке хватает казака за руку:
– Станишник, удал, стой, – правы не знаешь, а вот!
Подхватив с головы попа падающую камилавку, сует ее на лоток ближнего торговца, быстро валит за волосы попа лицом в снег и начинает пинать под бока, часто покряхтывая при пинках.
– Стрельцы, эй, караул! – из снегу кричит поп.
Двое стрельцов неторопливо подходят с площади, деловито звучит голос:
– Бьют?
– Бьют…
– Кого бьют?
– Попа…
– Давно уж бьют?
– Нет, еще мало! Задрал поп…
– А камилавка?
– Во, у меня! – кричит лотошник.
– Ну, пущай.
– Служилые! Ей, ради Христа-а! – истошным голосом хрипит поп.
– Мордобоец, буде, – здынь попа.
Мастеровой тянет за шиворот втоптанного в снег попа, хватает с лотка камилавку и, поклонясь попу, надевает ему убор на голову.
– Вот, батя, кика твоя! В сохранности-и…
Поп стонет, дует на бороду, ворошит ее руками, вытряхивая снег, и идет дальше, хромая, изрядно протрезвившийся.
– Потому попа в снег можно, камилавку нельзя: строго судят! – назидательно говорит кто-то в толпе.
Скрипит на ходу расставляемое подмерзшее дерево. Блинники – над головами их пар – раздвигают лотки, пахнет маслом и горелым хлебом.
– Кому со сметаной?
– У меня с икрой! Три на полушку.
– Каки у тя?
– Яшневые!
– У меня пшенишные!
– Давай ячных!
– И мне!
– Держи-ка, брат, бердыш! Чтой-то гашнику туго.
– Киселю, должно, поел?
– Не… все, вишь, брюковны пироги да пресной квас, штоб их!
– Служилый, ты бы подале с этим делом – тут едят крещеные!..
– Ништо-о!
– Он скоро и лик шапкой укроет!
– Заход – сажень с локтем, нешто ему лень?
– Ешь хлеб – да в снег!
– Ой, народ!
– Ты-ы ка-а-зак с До-о-ну? Ино с Черкасс?
– Кончи, – будем говорить!
– По Москве с оружьем не можно, только мы, стрельцы…
– Я есаул зимовой Донской станицы от войска к государю.
– Говоришь неладно: к государю, царю и великому князю! Тебе с оружьем можно – есть бумага ежели?
– Есть!
– Ну, иди! А то думали мы с Гришкой – дело нам, в Земской волокчи…
Высокий казак в красной шапке, отжимая на стороны толпу, идет дальше.
В переулке на площадь половина пространства заставлена гробами и колодами.
Белые, пахнущие смолью кресты воткнуты в снег, иные приставлены к стенам домов, к деревянным крыльцам.
– Кому последний терем? Кажинному надо: гольцу-ярыжнику, князю-боярину – всем щеголять не сегодня-завтре в деревянном кафтане.
Торговец гробами мнется на крыльце, поколачивая валенок о валенок. Около него два монаха в длиннополых рясах. Баба в полушубке, в платке, острым углом высунутом над волосами и лбом, плачет, выбирая гроб.