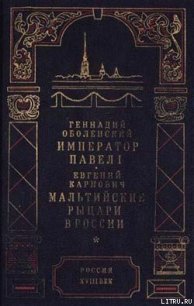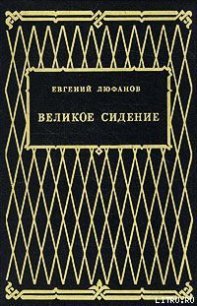Любовь и корона - Карнович Евгений Петрович (читать книги полностью .txt) 📗
Для принесения правительнице присяги явилась в Зимний дворец и цесаревна Елизавета. Соперницы встретились, по-видимому, весьма дружелюбно. Елизавета со слезами на глазах кинулась на шею своей племяннице и крепко облобызала ее в губы и в щеки, потом схватила ее руку, чтобы поцеловать, но правительница не допустила до этого. Теперь, без поддержки Бирона, беспечная, ветреная и веселая Елизавета казалась уже не опасной Анне Леопольдовне, проявившей такую решительность и смелость, а между тем неожиданный переворот, произведенный женщиной, при помощи горстки солдат, заронил в приверженцах цесаревны Елизаветы первую мысль о возможности сделать то же самое и в ее пользу.
XVII
Весь Петербург в течение нескольких дней только то и делал, что толковал о случившемся перевороте. Знакомые ездили друг к другу, стараясь поразведать что-нибудь новенького; болтуны и болтуньи, не зная ничего достоверного, принимались сочинять замысловатые рассказы и пускали их в ход как несомненную правду, между тем как рассказы эти были в сущности нелепой выдумкой. Ошеломленные неожиданностью государственного переворота, представители иностранных держав в Петербурге отыскивали всевозможные лазейки, чтобы поразузнать о таинственных событиях странной ночи и деятельно строчили своим дворам объемистые депеши, подхватывая на лету все, что им удавалось услышать. Услышать же теперь можно было многое. Новое правительство не принимало никаких мер для того, чтобы несколько обуздать и припугнуть даже самых смелых говорунов; усиленные при регенте караулы были отменены, расставленные при нем на улицах и площадях пешие и конные пикеты были немедленно сняты, никто не разгонял собиравшегося на улице народа, не закрывали ни кабаков, ни бань, и подозрительные шпионские рожи не сновали нигде: они как будто провалились сквозь землю.
Солдаты, остававшиеся перед дворцом на площади, поставив ружья в козлы, похваливали Миниха и в особенности молодцов-преображенцев, арестовавших регента. Весело и громко гудела дворцовая площадь, покрытая народом. По временам по ней проносился какой-то мягкий и перекатистый шум: начинал один попрозябший солдатик отогреваться, похлопывая рукавицами, глядя на него, принимался делать то же самое его товарищ, а за ним другой, третий, а потом и все, как это обыкновенно бывает в массе людей, приученных к дружным движениям и действиям.
Собравшиеся на площади в кучку гвардейские офицеры, из русских, толковали теперь об участи своих товарищей, схваченных по распоряжению регента.
– А что же, господа, – говорил один из офицеров, – ведь и о товарищах наших подумать следует; за последние дни мы многих из нас недосчитываемся. Куда девались Ханыков, Аргамаков, князь Путятин, Пустошкин?
– Куда девались? – перебил другой офицер. – Известно куда, да только запрятали их так хорошо, что не скоро их достанешь.
– Положим, хоть теперь и достанешь, – заметил третий, – да после побывки в застенке куда они годятся? Не жильцы они больше на белом свете, навек искалеченными останутся; кто с поломанной рукой, кто со свихнутой ногой, а кто вдобавок и сухотку прихватил.
– Надобно будет за них, господа, с челобитной от гвардейских полков к ее императорскому высочеству отправиться, – отозвался тот из офицеров, который поднял настоящий разговор.
– Незачем, – вмешался один из преображенцев, – сама помилует и достойным образом вознаградит каждого за страдание и за пролитую кровь. Ведь толкуют, что правительница и милостлива, и жалостлива. Да и с какой стати нам на первых порах учить ее, пусть сама свое милосердие по собственной воле являет. Посмотрим, что будет, а вот если не окажет милостей потерпевшим за нее, так тут другая статья выйдет; и без нее обойдемся… – добавил он, внушительно посмотрев на своих товарищей.
В другой разношерстной кучке ораторствовал какой-то старый подвыпивший приказный.
– Ведь вот поди ты, какие случаи бывают!.. Чудны дела твои, Господи! Еще вчера, около полудня видел я сам, как его высочество принц к регенту в гости ехал, а потом встретил их уже вместе: ехали они в Зимний дворец. Кажись, приятелями были.
– Да не только они так катались, – перебил один из толпы, – а видел я, как принц и регент вместе в герцогский манеж приехали, и подумал: эх, ведь народ-то как много вздору болтает. Говорили, что они живут промеж собой как собака с волком, а выходит-то на деле, что они друзья закадычные…
– Да ведь принц-то тут ровно ни при чем; вот там галдят, – сказал кто-то, указывая рукой в сторону, – что всю эту диковинку обделала ихнее высочество сама по себе.
– А кажись, с виду такая тихая и смирная будет!.. – подхватила какая-то старушонка, покачивая от удивления головой.
– Ну, уж насчет женского пола, – отозвался стоявший в кучке толстый купчина, – я вам доложу: тайна сия велика есть. Вот хоть бы примером заявить – моя супружница…
– Что ты, голубчик?.. Никак с ума спятил?.. – крикнул приказный, – тут мы о делах первостепеннейшей государственной, можно сказать, важности рассуждаем, а ты нам свою супружницу тычешь… Ну ее!..
Купчина растерялся, а толпа захохотала и принялась острить на свой лад, но некоторым показалось страшноватым толковать о таких опасных делах, и они стали понемногу пятиться от приказного, зато другие смельчаки еще более подвинулись к нему. Вдруг бывший среди разговаривавших поп икнул изо всей мочи. Этой неожиданности было достаточно, чтобы внезапный, бессознательный страх обдал всех присутствовавших: они пошатнулись и в ужасе отскочили от оратора.
– Вишь, батька, как пужнул всех, – хохоча во всю глотку, сказал приказный. – Чего, дураки, бежите? Вернитесь! – крикнул он.
Никто, однако, не хотел внять этому призыву. Все пустились наутек, как стадо испуганных баранов, искоса посматривая, не следует ли кто-нибудь за ними, и, отбежав подальше, радовались, что они избавились от беды подобру-поздорову.
– Что ты, батька, наделал? – укорительно заметил ему приказный.
– Что наделал? Так и должно быть; разве не знаешь, что и в пророчествах написано: «Поражу пастыря и рассеятся овцы стада», – добавил он не без спесивой торжественности.
– Хорош пастырь!.. Тебе бы не разгонять паству, а собирать ее теперь около себя и поучать ее, – внушительно заметил приказный.
– Да чему поучать?
– Чему поучать?.. чему поучать? – передразнил приказный. – Нешто не знаешь, что он не крещен?.. – добавил таинственным полушепотом.
– Кто он?.. – спросил поп, вытаращив глаза.
– Да он!.. А хочешь знать все, так изволь, тебе скажу. Иди сюда… – и, отведя попа в сторону, приказный начал ему шептать что-то, причем слушатель в недоумении покачивал головой, с любопытством прислушиваясь к словам своего собеседника.
Если бывшая на площади толпа жадно глядела на все, что происходило теперь перед ней, то еще более любопытство ее подстрекал вопрос о том, как порешат с регентом. В толпе ходил слух, что по этому делу идет во дворце совет и что как только он кончится, тотчас же «злодея» будут казнить лютой смертью тут же, на площади, перед всем православным народом. Все знали, что герцог сидит под караулом во дворце, и полагали, что там долго его не продержат, а потому и желали посмотреть, чем все кончится.
Сильно избитый ружейными прикладами и порядочно помятый регент, попавшийся в неволю, метался сперва как дикий зверь, запутавшийся в тенетах. Он осыпал страшными проклятиями вероломного Миниха и, не зная, кто был истинным виновником его бедствий, называл всех русских вельмож бездушными и неблагодарными людьми, не стоившими его милостей. Ссылаясь на волю покойной императрицы, герцог заявлял, что он законный правитель империи и что те хищники, кто насильственно лишил его принадлежащей ему по праву власти. Он то просил, чтобы принцесса или принц пожаловали к нему, то требовал, чтобы его отвели или к ней, или в совет министров для объяснений, или, наконец, по крайней мере, хотя объявили ему истинную причину его ареста. Он твердил и о том, что образ действий в отношении к нему представляет нарушение международных прав, так как независимо от того, что он был регентом империи, он был в то же время и владетельным герцогом Курляндским – государем, не состоявшим ни в какой зависимости от России. Он настаивал на том, чтобы к нему были приглашены представители иностранных держав, находившиеся в Петербурге, дабы он мог им заявить свой протест против оказываемого ему насилия. Все это он говорил в страшном раздражении, бессвязно, и по-русски, и по-немецки, обращаясь к приставленным к нему караульным офицерам и заявляя об этом врачу и пастору, посетившим его, а также начальнику тайной канцелярии графу Ушакову и генерал-прокурору князю Трубецкому, еще накануне этого несчастного для него дня так раболепствовавшим перед ним, а теперь пришедшим к нему, чтобы объявить о сделанных от имени правительницы насчет него распоряжениях.