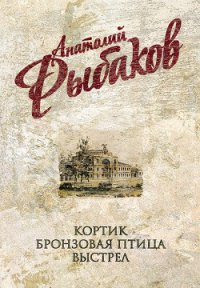К 'последнему' морю (др. изд.) - Ян Василий Григорьевич (серии книг читать бесплатно .txt) 📗
Братья Ноздрилины не ограничились постройкой церкви, а срубили целый скит из еловых и сосновых бревен, со всеми службами, общежитиями, конюшнями, складами, баней, погребом, коптильней для рыбы и пристанью для монастырских рыбачьих лодок.
Игуменьи избирались с высокого благословения новгородского архиепископа особо суровые, неулыбчивые, которые сумели бы держать в страхе божьем и повиновении всех монахинь и послушниц, прибывавших из ближних и дальних новгородских пятин. Игуменьи должны были строго и неусыпно блюсти монастырский порядок и добро, не допускать расточительности и наказывать нерадивых, зорко присматривая за мастерскими - ткацкой, вышивальной, иконописной, златошвейной, за пасекой и монастырским садом, где зрели яблоки, вишни и тянулись гряды кустов крыжовника и смородины.
Однажды после благовеста к заутрене в покои игуменьи, матери Евфимии, прибежала юная Феклуша, "послушница на побегушках", и, запыхавшись, рассказала:
- Сегодня, только что сторож Михеич пошел ворота отпирать, глянь, а к скиту кто подъехал-то! Боярыня, настоящая боярыня, молодая, с жемчужными подвесками в ушах. Сама видела, как она платок с головы сдернула и, простоволосая, пошла к воротам. А Михеич чего-то перепугался и перед ней ворота снова запер. И говорит, что боярыне не иначе как грозит большая беда, наверное, старый муж убить хочет. Почему, говорит, она руки все ломает и тайком слезы смахивает, а сама пригожая да нарядная... И с нею две чернавки. Все трое на конях верхами, точно из татарской неволи прискакали.
- Да где ж они? Сюда, что ли, идут?
- Нет, нет, мати Евфимия! Михеич их не пускает и никак не хочет отпереть ворота.
- Экой старый корень!
- Не хочет, ей-ей не хочет! Я говорю ему: "Отворяй, Михеич, пущай боярыню. Видишь, как устала с дороги". А он все одно отмахивается: "Может, за ней вдогонку сейчас боярин прискочит с молодцами и первому мне накладет по загривку. Знаю мужей обманутых!" Так и сказал: "Коли ежели мать-игуменья прикажет, то пусть и принимают гостью послушницы. А я от беды ухожу подальше на Волхов сига ловить".
- Вот неуемный старик, путаник! Беги к матери Павле скажи, что я велела ворота отворить, а боярыню у себя в келье принять. Да чтобы сейчас же затопили баньку.
Феклуша помчалась со всех ног, а мать-игуменья стал облачаться, чтобы показаться прибывшей во всем свое великолепии.
Прибывшую молодую боярыню поместили в келье ключницы, матери Павлы, и та сама с ней сходила в жарко натопленную баньку, где они обе мылись и обливались квасом. Мать Павла потом шептала на ухо игуменье, что у молодой боярыни все исправно, никаких бесовских знаков или синяков не видно. Сама мочалкой ей терла и спину и живот. Тоже неприметно, чтобы она была на сносях, хоть небольшая, но складная и в юном теле. Жить бы ей и поживать в любви и радости, а вот заладила одно: "Примите меня в скит, хочу постриг принять".
- Мать честная! - воскликнула игуменья. - Да ведь если она к нам в обитель вступит, то вклад богатейший внесет и казной и угодьями. Какие земли, пашни и покосы наш скит сможет от нее заполучить в вечное владенье! Надо немедленно свершить над боярыней постриг, пока она не одумалась и назад домой не уехала. Феклуша, попроси ко мне отца Досифея. Мы с ним все обсудим.
Глава двенадцатая. В СКИТУ
Любава стояла на коленях на подложенной черной бархатной подушке посреди храма, перед аналоем с образом пресвятой богородицы. Рядом с ней старая монахиня бережно держала на руках длинную черную одежду и черный же куколь. В эту одежду будет облачена после пострига молодая боярыня. Ее длинные белокурые распущенные волосы ниспадали по спине. Сегодня, после пострига, шелковистые волосы будут отхвачены резаками и упадут на холодный каменный пол.
Пока еще только послушница, Любава крепко сжимала маленькие руки. Полубезумным взглядом она уставилась на большой образ богоматери с младенцем на руках и сухими дрожащими губами тихо шептала то слова молитвы, то какие-то бессвязные жалобы: "Господи, укрепи веру мою! Помоги, мати божия, исполнить волю господню! Изгони мою слабость!"
Позади молившейся стояла величавая и суровая игуменья Евфимия. Строго сдвинув черные брови, она опиралась на высокий посох с золотым набалдашником. Игуменья зорким, как бы скорбным, а иногда хмурым взглядом посматривала то на маленькую боярыню, то на лицо Досифея, иеромонаха, стоявшего возле боярыни и тихо твердившего, склоняясь к ее уху:
- Молись, чадо мое... и повторяй слова, издревле реченные: "Аз, раба .божия, грешная..."
Но боярыня как будто его не слышала, и совсем другие слова слетали с ее бледных дрожащих губ.
Игуменья сделала глазами строгий знак монашке, стоявшей поблизости с небольшим медным подносом, на котором был серебряный ковшик с теплым вином, подносимым причастникам. Монашка подошла ближе. Стоявший рядом с Досифеем громоздкий, краснолицый, с рыжей бородой дьякон взял ковшик, поднес к устам Любавы и пробасил:
- Испей, дочь моя, теплоты на поддержание сил телесных.
Хор монахинь на клиросе пел необычайно скорбный псалом, говоривший о бренности земной жизни, о тщете и суетности всех мирских стремлений и радостей.
- "Свете тихий святые славы, пришедый на запад солнца, видеста свет вечерний..." - жалобно выводили нежные женские голоса, и делались более грустными лица стоявших рядами монахинь, старых и молодых, в черных рясах, истово крестившихся и одновременно опускавшихся на колени или бесшумно встававших.
"Послушница для побегушек", Феклуша, мышью пробралась среди стоявших монахинь и проскользнула к самой игуменье. Та сурово скосила на нее глаз, но, увидев встревоженное лицо черницы, величаво склонилась и подставила ухо.
- Приехали! Много молодцов... На лихих конях... Одни ворота ломают, другие поскакали в обход скита. Там теперь у ворот мать Павла с ними бранится и прочь гонит. Послала спросить, святая матьигуменья, что ей делать?
- Сказки, чтобы крепилась во славу божию. Только господь нам поможет, и беси окаянии вси отринутся.
Точно порыв ветра и шорох пронеслись по рядам безмолвно стоящих монахинь, которые слегка зашевелились и потом снова застыли в благоговейной тишине. Феклуша исчезла. Игуменья, качнув утвердительно головой, посмотрела многозначительно на Досифея:
- Поспешай! - и, повернувшись к пышнотелой монаха не, сестре "на ключах", прошипела: - Свечи!
Две черницы пошли по рядам, раздавая молящимся тонкие восковые свечи. Все зажгли одна от другой, и храм озарился множеством огоньков. Хор стал разливаться еще более скорбным антифоном, какие обычно слышатся на отпевании покойников: ведь раба божия уходит добровольно из мира, отказываясь от всех житейских радостей, и становится верной "рабою Христа".
Отец Досифей снова склонился к стоящей на коленях Любаве и продолжал настойчиво вещать:
- Повторяй, чадо мое, что аз тебе реку: "Добровольно хочу чин ангельский принять..."
Черница вставила в сжатые руки боярыни толстую зажженную свечу, и в дрожащем ее свете уже можно было яснее различить нежные черты бледного лица и крупные слезы, катившиеся из-под опущенных ресниц.
Тщетно отец Досифей склонял свое волосатое ухо к устам Любавы, он не мог уловить ни одного ее слова. А игуменья продолжала твердить, будто не замечая молчания Любавы:
- Она уже говорит... Говорит все, что положено. Продолжай, отец Досифей. Свершай постриг! Где резаки?
- Здесь, у меня резаки! - прогудел дьякон, держа руках большие полузаржавевшие ножницы.
- Чего ждете? - торопила игуменья. - Отрезай четыре пряди крестообразно на голове И выстригай поскорее гуменцо...
Боярыня, зажмурив глаза и крепко сжав губы, больше не произносила ни слова. Вдруг ее маленький рот полуоткрылся и засияли удивлением и радостью глаза: она услышала такой знакомый, такой родной голос:
- Любава! Любушка моя! Цветочек вешний! Каким злым ветром тебя сюда занесло? Ты зачем здесь, моя ласочка?