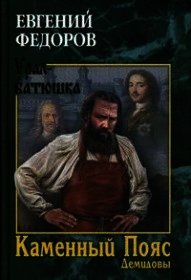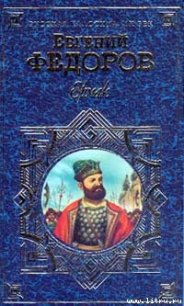Демидовы - Федоров Евгений Александрович (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
Никита опустился на скамью:
— Ну, сказывай, как дела?
У Акинфия забилось сердце, но, сдерживая себя, он спокойно рассказал отцу о просеке к Чусовой.
Тут взор его разгорелся, он рассказал про встречу с солдатом и о рудах…
Никита встал, прошелся по горнице.
— Мохнорылый, а чужое добро задумал огребать. Ты что ж? — В глазах Никиты стояла ночь. — Бабу уволок, а о рудах не подумал?
— Батюшка! — Акинфий упал в ноги отцу. — Батюшка, согрешил: убил я солдата, оберегая наше добро… Страшно мне от крови. Кажись, и сейчас горит сердце… Первый мой грех…
Никита поднял за плечи сына, успокоил:
— Успокойся! Не ты виновен в его смерти, сам напросился. Закажи панихиду по усопшему, на душе и полегчает. Всякое, сынок, в жизни бывает!
Больше они в этот день ни о чем не говорили. Сын ушел в горенку и пробыл там до утра.
У Аннушки густые черные ресницы и круглая, словно точеная, шея. На ее широкой спине — толстая темная коса. Одета она в голубую кофту, на плечах пушистый платок. Аннушка любит сказки; проворная демидовская старуха складно рассказывает их. Лицо кержачки строго, глаза печальны: скорбит глубоко. Из раскольничьих скитов принесла она крепкую веру и любовь к суровой молитве.
Акинфию нравилось печальное лицо и покорность кержачки. Больше он не спрашивал ни о чем. Дел по заводу нахлынуло много; они шли, как водополье. И жил Акинфий, как на водополье; на своем башкирском коньке ездил по горам и падям, намечал новые заводы. За делами, в работе, когда подкрадывалась тоска по женской ласке, он вспоминал Аннушку. Тогда — на стану, или в лесу, или в куренях, где рабочие вели пожог угля для прожорливых домен, — перед ним вставали зовущие глаза кержачки. В пургу, в мороз, через дебри и тайгу он ехал к ней в Невьянск и день-два не уходил из ее горенки.
Отец подумывал о Туле, торопился с литьем. Он предупреждал сына:
— Гляди, не шибко прилипай к бабе, не то дело порушится, а нам надо поднять такой дикий край!
О жене Акинфий вспоминал редко, по весне собирался навестить ее. Тут не было тревог; знал и верил отцовскому домострою. Верна будет Дунька!
Когда уезжал Акинфий, Аннушка изредка выходила погулять по заводу. Недремлюще было око Никиты Демидова. За ворота завода-крепостцы ее не пускали. Да и куда пойдешь, когда по тайным тропам в горах и лесах притаились демидовские дозоры. Никита пригрозил ей:
— Ты, Анна, бегать не вздумай. Настигну и в скитах; скиты разорю и попалю. Так!
Он хвалил сына:
— Да и другого ты, как Акинфку, не найдешь. Умен, пес, и жадный к работе…
В одну из глухих, волчьих ночей в Невьянск возвратился Акинфий. За ним демидовская ватажка влекла на коне связанного кержака. Пленный скитник был волосат, черен, как жук, и глазами напоминал раскольницу Аннушку.
Кержака немедленно отвели в глубокий демидовский подвал. Сам Никита спустился в тайник. В погребе пахло плесенью, пламя в каганце горело прямо. Связанный кержак угрюмо молчал. Никита сжал кулаки, шагнул к нему:
— Молвишь, что ли, где Аннушкин полюбовник руду сыскал?
— Неведомо мне это…
— Их-х, пес!..
Кержака повалили на каменный пол.
Ночью в горенке Аннушка слышала, как в подполье глухо стучали… Отчего-то скорбело сердце, не находило покоя. Суеверная кержачка опасливо подумала:
«Не домовой ли то шебаршит в подполице?..»
Скованного кержака заключили в узилище…
Прошли крещенские морозы, по пышному снегу наметилось много звериных следов. По ночам к заводскому тыну приходили волки. Наследив по снегу вокруг крепостцы, волки садились против ворот и, подняв морды, начинали выть; в этом вое были темная тоска и ярая злость. Пристав взбирался на башню, — от мерзкого волчьего воя по коже драл мороз, — бухал по волкам из дробовика. Звери, ляская зубами, отбегали, садились и начинали опять выть.
Ставили капканы, но волки обходили их.
Волкодав в хозяйских хоромах угрюмо поглядывал на Демидова. Волчий вой беспокоил хозяина. К тому же на него напали тоска и подозрительность.
В ночную темь, в волчьи ночи заводчику не спалось, пробуждалась совесть. В густом мраке вставал Кобылка с ершиной бороденкой, хрипел. В углу, казалось, не сверчок верещал, а замученные. Сколько их? Об этом знал только один Никита. В эти глухие ночи, когда он оставался наедине со своей совестью, его томила тяжкая тоска.
Он кряхтя вставал с постели и подходил к потайным слуховым трубам, долго прислушивался. В огромном каменном доме-крепости среди мертвящей тишины рождались какие-то звуки: то ли стон, то ли плач, а может — треск старых дубовых половиц…
«Вот оно как бывает! — озадаченно думал Никита: — Демидовы крепко сшиты, а душа и у них тоскует…»
Он до полуночи ходил по горнице; пес тревожно поглядывал на хозяина.
«Уж не Аннушка ли затеяла что? — подозрительно прислушивался Демидов. — Кержаки-то — они народ лесной, тяжелый. Ежели им топоры в руки… Долго ли до беды?..»
Никиту обуревали подозрения. Ему казалось, что Аннушка узнала об отце-узнике, подговорила служанок…
— Ух ты! — тяжко вздохнул Никита, сунул жилистые худые ноги в валенки и, освещая путь горящей свечой, крадучись пошел вдоль коридора. По пятам шествовал пес, с преданностью поглядывая на хозяина. Глаза Демидова горели недобрым огнем, гулко колотилось его сердце.
Заводчик остановился перед дубовой дверью; пес вилял хвостом, ожидал. В горенке стояла тишина: спали. Пламя свечи в шандале колебалось.
«Никак почудилось? Спит баба… А может, притаилась? Нет, не может того быть…»
Он сжал челюсти, закрыл глаза; ноги словно вросли в каменный пол; на двери с минуту колыхалась огромная угловатая тень человека.
Никита резко повернулся от двери:
«Волки окаянные тоску навели…»
Грузным шагом он медленно возвратился в горницу. На башне бухнул выстрел. Волки замолкли, но через минуту вой их поднялся снова.
Демидов накинул полушубок, надел треух, взял дубинку и вышел на двор. За ним по пятам шел верный пес.
С темного неба по-прежнему с шорохом падал снег. Никита, крепко сжимая дубину, подошел к воротам.
— Открывай ворота, бей зверя! — злым голосом крикнул Демидов. Пристав сошел с башни, перед ним стоял взлохмаченный хозяин.
— Открывай! — гаркнул Никита.
У пристава от хозяйского грозного окрика задрожали руки.
Нетерпеливый Демидов отпихнул пристава, загремел запорами и открыл ворота. Против них на голубоватом снегу полукружьем сидели волки. Зеленые огоньки то вспыхивали, то гасли. Пес ощетинился, зарычал.
— Воют, проклятые! — Хозяин с дубьем бросился на волков.
Звери, ляскнув зубами, отскочили… Демидов прыгнул и шарахнул дубиной — передний волк взвизгнул и покатился на снег. На него набросилась стая.
Никита подумал: «Эх, волчья дружба».
— Батюшка, Никита Демидыч… Ой, остерегись! — кричал из-за тына пристав.
Волки грызлись. Никита дубьем врезался в волчью стаю. Матерый зверь с размаху прыгнул Демидову на спину — Никита устоял на ногах. Пес острыми клыками цапнул зверя за ляжку — зверь оборвался. Пес и зверь, грызя друг друга, покатились по снегу.
Остервенелый Никита бил дубьем зверя, а волки ярились; длинный и тощий прыгнул на грудь Никите и острым зубом распорол полушубок…
— Так! — одобрил Никита и взмахнул дубиной.
— Ой, страсти! Осподи! — Пристав не переставая палил из дробовика.
На дворе заколотили в чугунное било. Сбежались сторожа и еле оборонили Никиту и пристава.
Волки разорвали полушубок на Демидове, ветер взлохматил его черную бородищу. От Никиты валил пар. Зло ощерив крепкие зубы, с дубиной в руке, Демидов прошел в ворота и зашагал к хоромам. Тяжело дыша, он сам себе усмехнулся:
«Ну что, старый леший, со страху наробил?»
На истоптанном снегу с оскаленной пастью растянул лапы изорванный волками верный пес…
По наказу Демидова работные люди огнем отогрели глубоко промерзшую землю, ломами выбили яму и схоронили пса. На псиной могиле поставили камень; на нем высекли слова: