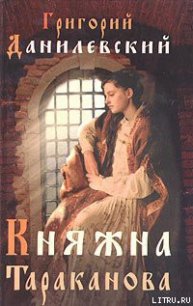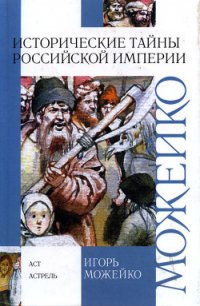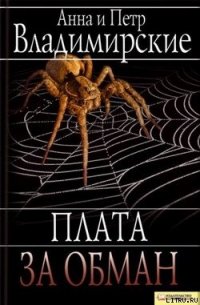Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин"
— Правда, правда! И в эту минуту быть не в силах, в эту минуту лежать... это просто невыносимо! Князь, послушай, мы всегда шли рука об руку. Если ты имеешь право быть недовольным моим двоюродным братом, выведенным мною при твоём посредстве, то ты знаешь, что я тут не виноват. Я и сам обойдён им, даже более, чем ты! Послушай, князь, поддержи меня искренне!
— Если ты от Ивана Ивановича отступаешься, то почему ж и не так! Я не приехал бы к тебе с моим известием, если бы не полагал, что мы можем идти рука об руку.
— А я заслужу, видит Бог, заслужу! Вот тебе моя рука! Само собой, я не захочу поддерживать кузена. Он мне так услужил, что я имею полное право считать его своим врагом. Он променял меня на этого Шаховского. Хотя, скажу откровенно, что по родству я не желаю его губить. Но меня мучит неизвестность; от такой неизвестности я, кажется, с ума сойду. А вот что, я велю перевести себя к Александру Ивановичу Глебову, чтобы быть поближе. Присылай ко мне каждый час известие, что там делается; уведомляй, князь, ты спасёшь меня!
— Итак?..
— Да!
— Союзники?
— Друзья!
И они пожали друг другу руки.
В это время князю Никите Юрьевичу принесли пакет. Он распечатал. Это было докторское сообщение о крайней опасности припадков болезни императрицы Елизаветы Петровны.
Дня через два после описанного здесь разговора в Зимнем дворце происходила следующая сцена.
В собственном рабочем кабинете её величества, расположенном непосредственно подле её уборной, к которой прилегала её спальня, в кабинете, в который обыкновенно никто не допускался, кроме приезжавших с докладом статс-секретарей и президентов коллегий, и то не иначе как по особому соизволению императрицы, объявленному через её обер-камергера, — за сдвинутым на середину комнаты столом расположился генерал-фельдмаршал, первенствующий сенатор, князь Никита Юрьевич Трубецкой.
Подле него стояла чернильница и лежала бумага, на которой он что-то отмечал.
Напротив него, по другую сторону стола, сидел бывший обер-прокурор сената, креатура Шувалова и Трубецкого, теперь генерал-кригскомиссар генерал-поручик Александр Иванович Глебов. Перед ним лежала довольно порядочная кипа дел и бумаг, привезённых из сената и вынутых из портфеля, который, опорожнённый, лежал тут же под столом, в ногах у Глебова.
Глебов, приподнимая то ту, то другую бумагу, докладывал что-то Трубецкому, который иногда обращался к нему с вопросами. Подле Трубецкого стоял Дмитрий Васильевич Волков, которому князь Трубецкой по написании нескольких слов что-то вполголоса объяснял.
У обеих дверей стояли комнатные, а за дверями, в малой приёмной, стоял часовой лейб-кампании, с ружьём у ноги.
Во дворце все ходили на цыпочках. В зале собрался уже весь генералитет, государственные чины и множество офицеров; в тафельдекерской, официантской и камер-юнкерской толпилось множество дворцовой прислуги; тем не менее тишина была совершенная.
В малом белом зале[1] собралось духовенство в облачении. Оно ждало выхода докторов от императрицы, чтобы идти к ней для святого елеосвящения.
Государыня лежала на смертном одре.
К Трубецкому подошёл Алексей Петрович Мельгунов.
— Великий князь просит ваше сиятельство не оставить вашим вниманием озаботиться составлением манифеста от его имени на случай несчастия.
— Не упустим, не упустим! Доложите его высочеству, что если уж ему угодно было мне поручить, то ничего с моей стороны упущено не будет.
В это время вышли доктора Круз и Шиллинг, за ними шёл великий князь.
— Ну как? — спросил Трубецкой.
— Едва ли доживёт до утра, — отвечал Круз.
— Да будет Его святая воля! — сказал Трубецкой с печальным выражением взгляда, хотя было видно, что печальное настроение его не что иное, как только выполнение вежливой формальности. — Мы, по крайней мере, верные рабы его высочества, можем только просить Бога, чтобы Он укрепил и поддержал в нём бодрость духа для начинания своего славного царствования! — продолжал Трубецкой.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Великий князь в это время рассеянно глядел в сторону, поэтому не слыхал, что сказал Трубецкой.
«Да, я сейчас же велю Чернышёву... Мне какое дело... — проговорил он про себя под влиянием каких-то своих внутренних соображений.
— Распорядиться о назначении почётного караула при особе его высочества из двух полувзводов: один от собственного его высочества конвоя, другой от лейб-кампании...
— Нет, нет, не хочу янычар! Другой, просто от четвёртой роты Преображенского полка, с Барятинским. Покурить чертовски хочется!
В это время вошли старый, сморщенный сенатор Иван Иванович Неплюев и генерал-прокурор сената, заступивший на этом месте Трубецкого, князь Яков Петрович Шаховской.
— Что этим нужно? — сказал с презрением Трубецкой, показывая глазами на вошедших.
— Что, можно узнать, какова наша матушка государыня! — спросил Неплюев.
— Мы надеемся... доктора говорят, будто поотошло. А впрочем, что Бог даст! Ко всему быть готовым нужно, — как бы нехотя отвечал Трубецкой.
— Дай Бог, дай Бог! Мы все молимся... — начал было говорить Неплюев, но Трубецкой его не слушал.
— А вы посылали к канцлеру? — спросил он у Волкова.
— Никак нет, ваше сиятельство; вероятно, он и сам придёт, — отвечал Волков.
— Пошлите всё равно от имени его высочества. А вы, — продолжал он, обращаясь к Глебову, — пошлите цидулку к графу Петру Ивановичу. Ведь он ждёт не дождётся!
В это время Шаховской тихонько, чуть слышными шагами ходил по комнате, подходя то к той, то к другой картине или к той или к другой статуе.
— Что им нужно? — ещё раз сказал Трубецкой, взглядывая на великого князя.
В дверях уборной показалась камер-юнгфера.
— Ваше высочество! — проговорила она.
Великий князь как бы вздрогнул от её голоса и торопливо пошёл вместе с нею в уборную.
— Распорядись-ка, Алексей Петрович! — сказал Трубецкой, подмигивая в сторону Шаховского и Неплюева.
Мельгунов ушёл за великим князем.
Через минуту из уборной вышел Гудович и от имени великого князя сказал Неплюеву и Шаховскому, что им в собственном кабинете государыни быть нельзя, а не угодно ли подождать в общем приёмном зале. Тем поневоле пришлось убраться, хотя, видимо, обиженными.
Через минуту вошёл дежурный камер-юнкер и доложил, что фельдмаршал граф Алексей Григорьевич Разумовский просит позволения проститься с государынею.
— Вот не было печали... Впрочем, может быть, к лучшему. Любимчику-то поневоле уйти нужно будет. Подождите, я сам доложу, — Трубецкой встал и пошёл в уборную.
Через минуту оттуда вылетел, как бомба, раскрасневшийся и, видимо, тоже обиженный граф Иван Иванович Шувалов. Он торопливо прошёл кабинет на своих пухловатых ножках, будто не замечая, что все бывшие в комнате, вместо того чтобы вскочить и приветствовать его низкими поклонами, что они непременно сделали бы за день перед тем, тут его совершенно не заметили. Одни для этого повернулись к нему спиной, другие нагнулись над бумагами.
С Трубецким из уборной вышел доктор Монсей.
— Не то что верно, а можно сказать — уже кончено, — сказал Монсей.
— Так я пошлю в типографию. Зовите Разумовского да скажите, чтобы не растревожил. А как он войдёт, эдак минут через десять зовите попов. Долго им друг с другом говорить не о чем.
— А великая княгиня там? — спросил Глебов.
— То-то и есть, что там! Не выдумали бы какой-нибудь подкоп подвести.
— Нужно уговорить великого князя, чтобы и он не отходил.
— Уговори ты его! Он вот хотел идти в офицерскую; говорит, курить хочет. Насилу убедил остаться и то пообещал, что я в бильярдной прикажу затопить камин, так он перед камином может покурить, если хочет. Распорядись-ка, голубчик! — прибавил он Волкову.
В комнату вошёл Разумовский. Ему навстречу вышел Трубецкой.