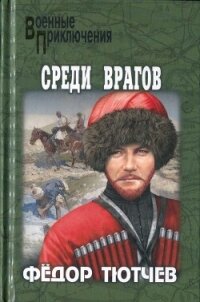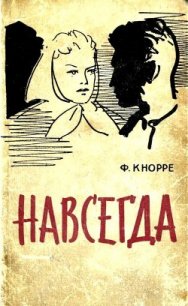На скалах и долинах Дагестана. Герои и фанатики - Тютев Фёдор Фёдорович Федор Федорович (книга регистрации .txt, .fb2) 📗
— Братцы, стойте, вот ён! — заорал солдат, отскакивая в сторону и уже занося над Колосовым штык.
— Болван! — крикнул тот. — Ослеп? Своего офицера не видишь?
Солдат опешил, сконфузился и робким извиняющимся голосом забормотал:
— Виноват, ваше благородие, явите начальническую милость, простите, не доглядел, темно. Думал, чечен.
— Ну ладно. Ступай, посмотри, что там такое.
Солдат побежал и через минуту вернулся с докладом.
— Так, что, ваше благородие, нехристи часового убили.
— Как убили? — вздрогнул всем телом Колосов. — Насмерть?
— Так точно, наповал. Прямехонько пуля промеж глаз угодила. Жаль Синявина, хороший солдат был, царство ему небесное.
Солдат набожно перекрестился.
«Что же это такое, — думал Колосов, ощущая прилив знакомого ему ужаса, — сейчас был жив, разговаривал, жил, дышал; прошла какая-нибудь минута — и того уже нет, а есть что-то другое, нелепое, страшное, неподвижное и склизко-холодное…»
Как вчера, присутствуя при избиении мюридов во рву, так и теперь Колосову вдруг захотелось захохотать. Он едва-едва сдержал себя и обратился к солдату с просьбой помочь ему подняться на ноги.
— Ваше благородие, да вы нешто ранены? — всполошился солдат. — Дозвольте, я вас на спине снесу.
— Нет, нет, не надо, — запротестовал Колосов. — Я и сам дойду, ты только поддерживай меня немного.
Когда Колосов, бережно поддерживаемый солдатом, с большим трудом добрался до своей палатки и при помощи проснувшегося денщика сбросил с себя одежду и осмотрел ногу, то оказалось, что пуля только слегка задела колено, сорвав кожу и причинив контузию. После двух-трех холодных компрессов боль значительно утихла, а к утру Иван Макарович чувствовал себя настолько хорошо, что при желании мог бы даже идти на штурм, но он поспешил воспользоваться своей контузией как предлогом остаться в лагере. Как обыкновенно, в последнее время его удерживал не страх за себя лично, но непреодолимое отвращение, испытываемое им при виде трупов и крови.
Когда командиру батальона, в котором служил Колосов, доложили, что Иван Макарович с пустячной, повидимому, контузией остается в числе тяжелобольных и раненых, добродушный старик пришел в ярость.
— Скажите, скажите ему, — задыхаясь кричал он, топая ногами, — что он позорит полк; у нас, у кавказцев, с таким вздором не принято покидать ряды… да-с, не принято… Какой пример солдатам… позор, позор! Офицер — трус, что может быть хуже этого?
— Господин майор, — вмешался один из офицеров, — позвольте доложить: Колосов не трус, мы все это знаем, в начале похода он не хуже других бросался на завалы и даже как будто нарочно искал смерти, но последнее время с ним что-то случилось. Он, кажется, немного того… — Офицер выразительно повертел пальцем перед лбом.
— То есть как это «того», что вы хотите этим сказать?
— А то, что по моему мнению и по мнению других товарищей, Иван Макарович тронулся разумом. Попросту говоря, сходит с ума, а может быть, уже сошел, бог его знает.
Майор вопросительно поглядел на офицеров, те молчаливым согласием подтвердили предположение товарища.
— Так вот оно что, — произнес старик-баталионер совершенно иным тоном. — Жаль молодого человека, жаль. Это бывает. Ну, если так, то пусть его останется, может быть, бог даст, отлежится… Вы уж ему, господа, ничего не говорите, не тревожьте, — добавил майор своим обычным задушевным тоном.
Лежа в палатке и прислушиваясь к нескончаемой пальбе и отдаленному гулу боя, Колосов не переставая рисовал себе картины ужасных сцен, которые совершались теперь там. Иногда ему казалось, что даже сюда, в палатку, до него доносится пряный запах крови. Уже несколько дней запах этот преследовал его, не давая ему ни минуты покоя.
Иногда во время обеда этот запах неожиданно ударял ему в нос, и тогда Иван Макарович переставал есть и уходил от стола с ощущеньем тошноты. Чем дальше, тем явление повторялось все чаще и чаще, и Колосов с ужасом думал о том времени, когда он совершенно перестанет есть. «Что тогда будет?» — задавал он себе тревожный вопрос и не мог ничего ответить. Об Ане и Двоекуровой он совершенно перестал думать. Когда случайно та или другая приходила ему на память, он вспоминал о них как о чем-то бесконечно далеком. Из его любви к ним не оставалось ничего, и он был совершенно равнодушен к обеим.
Мысли, занимавшие его теперь, ему казались несравненно более важными и серьезными, чем мечты о любви. Смешно думать о любви, о счастье, когда всюду валяются трупы, воздух пропитан запахом крови, когда каждую минуту может прийти мертвец и зарезать, как вчера один такой зарезал Мачихина. Что это был мертвец, Колосов знал наверняка. Он не хотел только спорить. К чему? Их все равно не убедишь. Он без смеха не может вспомнить, как старательно прикалывали вчера солдаты мертвеца, убившего Мачихина. Они думают, будто, проткнув его штыками, навсегда отделались от него. Какое жалкое заблуждение. Во всякую минуту он снова может встать и снова зарезать кого вздумается… и опять они будут колоть его штыками, и опять он посмеется над ними.
Колосов громко расхохотался. Хлопотавший где-то поблизости денщик, услыхав странный смех своего офицера, торопливо заглянул в палатку, недоумевающим взглядом как бы спрашивая: «Что случилось?»
— Слушай, тезка, — денщика Колосова звали тоже Иваном, и в силу этого в хорошие минуты Иван Макарович называл его тезкой, — скажи-ка мне, что ты сделаешь, когда придет мертвец?
— Какой мертвец? — оторопел солдат, во все глаза глядя на офицера.
— Обыкновенный. Как ты, братец, не понимаешь… — совершенно серьезным тоном продолжал Колосов. — Мало ли их теперь, вон, слышишь, воют. Это всё мертвецы. Ступай в аул, там их как дров навалено.
— Это так тошно, потому упорны уж больно нехристи, ничего не поделаешь. Где бы пардону просить; его, може, и пожалели бы, а он так прямо как медведь на рожон, так и прет; ну, известное дело, на штык иль бо на пулю и напорется. Карактерный народ.
— Ну вот, — не вслушиваясь в слова солдата и как бы отвечая сам себе на тревоживший его вопрос, — ты сам видишь, много мертвецов, и каждый из них может прийти. Чем остановим их? А?
Солдат, которому перед тем только что показалось, будто он понимает своего офицера, снова обалдел и не знал решительно, что отвечать.
— Да нешто, ваше благородие, мертвецы когда ходят? — нерешительным тоном, в свою очередь, спросил он, напрасно силясь угадать, что именно нужно офицеру.
— Ха, ха, ха, — расхохотался Колосов. — А ты как бы думал? — произнес он загадочно. — Спроси-ка, кто вчера прапорщика Мачихина убил, тогда и узнаешь, ходят ли мертвецы. Нет, ты мне скажи лучше, чем ты остановишь его, ежели он придет?
«Да что он, рехнулся, что ли?» — с тоской подумал солдат, не зная решительно, в каком тоне и духе говорить с своим офицером. От этого у него даже пот выступил на лбу.
— Ну что ж, говори, — допытывался Иван Макарович.
— Да чем же, ваше благородие, его остановить. Известное дело, окромя молитвы, ничем иным его не удержишь.
— Ха, ха, ха, молитвой? Ты его молитвой, а он тебя кинжалом, как Мачихина, тогда как будет?
«А штоб ты пропал, порченый», — мысленно выругался денщик и, чувствуя, что от всех этих неприятных для него разговоров у него уже начинает «померки отшибать», он чуть не со слезами взмолился:
— Так что, ваше благородие, дозвольте идтить, у меня дело есть.
— Дело? Ты так бы и сказал, иди с богом, — сейчас же согласился Колосов.
Иван выскочил из палатки как ошпаренный.
— Мое-то благородие никак с ума спятило, — сообщил он конфиденциальным тоном денщику другого офицера, палатка которого была разбита по соседству.
— А что? — полюбопытствовал тот.
— Да заговариваться начал. Все про каких-то, прости господи, мертвецов толкует.
— Гм… чудно. А он не пьет у тебя? Може, это с перепою? Бывает.
— Эко что сморозил. Первое дело мое благородие и не пьет вовсе, а второе, нешто до мертвецов допиваются? До чертиков, до зеленого змия — это точно, случается, а чтобы до мертвецов, никогда такого дела не бывало.