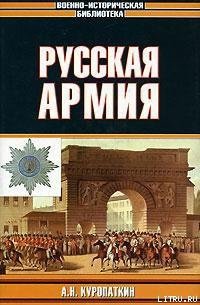Салтыков. Семи царей слуга - Мосияш Сергей Павлович (книги регистрация онлайн бесплатно .TXT) 📗
— Ваше превосходительство, там казак приволок прусского полковника. Как прикажете, под караул или?..
Апраксин, еще не отошедший от дневных волнений и страхов, поднялся с походного ложа:
— Взглянуть хочу.
Он вышел из шатра и в свете горящего рядом костра увидел связанного прусского офицера, стоящего у стремени чернобородого казака.
— Вот ваше пре-ство, — сказал казак, сглотнув полслова. — Пымал голубя, решил до вас доставить для гуторки. Рубить пожалел, все ж генерал. Сгодится?
— Сгодится, казак. Спасибо. Как звать тебя?
— Емельян Пугачев [56], ваше пре-ство.
— Молодец, Емельян. Держи. Заслужил. — И подал казаку серебряный рубль.
— Премного благодарны, ваш пре-ство, — отвечал казак, лукаво щурясь.
От пленного он больше поживился, вытряхнув у него из кармана пять полновесных талеров. А вот фельдмаршал поскупился, мог бы за генерала и поболе дать.
— Это не генерал, казак. Это полковник драгунский.
— Я, я… — закивал вдруг пленный. — Полковник Борх есть.
— А я-то думал, — вздохнул Пугачев, словно сожалея, что оставил в живых пленного, и стал заворачивать коня.
4. И победителей судят
На день Рождества Богородицы 8 сентября Елизавета Петровна молилась в приходской церкви Царского Села, куда набилось много народу, пришедшего с окрестных деревень по случаю праздника.
В храме было душно, и императрица, почувствовав себя плохо, поспешно вышла на крыльцо. Не сделав и десяти шагов от крыльца, вдруг повалилась без чувств наземь.
Рядом не оказалось ни одной из ее фрейлин. Какая-то женщина, вбежав в церковь, крикнула сдавленным голосом:
— Там… ее величество померли.
Весь народ сыпанул на улицу, окружил лежавшую без сознания императрицу, боясь к ней приблизиться.
— Что с ней?
— Померла, никак.
— Вроде дыхает.
— Делайте ж что-нибудь.
— Зовите лекаря.
Тут какая-то женщина, заметив, что по лицу императрицы заелозила муха, спугнула ее, накрыла лицо Елизаветы белым платком и, перекрестившись, отошла.
Прибежавшие придворные дамы сбросили с лица императрицы платок и, мешая друг другу, стали приводить ее в чувство.
Одна терла ей виски, другая совала к носу какой-то пузырек, третья дула ей в рот.
— Надо звать лекаря Кондоиди.
— Он сам болен.
— О-о, проклятый грек, нашел время болеть.
— Марья, беги зови этого… ну хирурга.
— Какого?
— Ну как его… французишка который.
Какая-то побежала, придерживая юбку, за «французишкой». Наконец явился француз Фуадье со своим баулом, полез за инструментом.
Вскоре дюжие гвардейцы притащили прямо с креслом и лейб-медика Кондоиди, он был в жару, красен как рак. Спросил хрипло:
— Что вы сделали?
— Я пустил кровь, — отвечал Фуадье.
— Ну как?
— Не помогает.
Обведя мутным взором сбежавшуюся толпу, лейб-медик распорядился:
— Немедленно сюда кушетку и ширмы. Здесь не театр.
В толпе тихо завыла какая-то баба, Кондоиди сверкнул черными глазами:
— Цыц! Заткните ей глотку!
Лейб-медика понять можно было. До сего дня любое недомогание ее величества тщательно скрывалось всех, даже от их высочеств принца и принцессы. А тут вдруг такое случилось прилюдно, на глазах подлого народишка. Что-то завтра поползет по городу, по государству, какими слухами наполнится столица!
Наконец притащили кушетку и ширму, Гвардейцы осторожно подняли тяжелую, рослую императрицу, положили на кушетку. Огородили ее вместе с медиками складной ширмой. Разогнали толпу.
— Кыш отсюда. Живей, живей!
Стало вечереть, становилась прохладно, императрицу перенесли во дворец, там уже при свечах она открыла глаза, прошептала косноязычно:
— Где я?
Больше не сказала ни слова. Явился великий канцлер Бестужев, на цыпочках подошел к лейб-медику, тихо спросил:
— Ну как?
— Плохо, ваше сиятельство. Падая, ее величество прикусила язык. Но я постараюсь, я постараюсь…
— Постарайся, постарайся, дружок, — произнес канцлер и так же на цыпочках удалился.
Выйдя из дворца, велел подать карету и, взобравшись в нее, приказал кучеру:
— В Ораниенбаум, да поживей.
Канцлер спешил к их высочествам, наследниками ее величества. Да и не он один. Возможно, завтра взойдет над державой новое солнце, надо не опоздать и под ним погреться.
После победы под Гросс-Егерсдорфом и отдания последних почестей павшим воинам, — а их пало почти полторы тысячи, — возникал вопрос: что делать дальше? Левальд разбит, дорога на Кенигсберг свободна. Приходи и бери, но Апраксин медлил.
Молодой генерал Румянцев кипятился:
— Чего ждем? С моря город блокирован, дело за нами!
Оно и правда, ситуация сложилась весьма выгодная для русских. Они победители, а после взятия Кенигсберга, в сущности, вся Восточная Пруссия будет под диктатом России.
Но командующий отдал приказ армии идти к Тильзиту, велев адъютантам: «Этого мальчишку ко мне не пускать!»
Под «мальчишкой», как догадывались умудренные адъютанты, подразумевался Румянцев, хотя «мальчишке» шел уже тридцать третий год. Румянцев же, узнав о нежелании фельдмаршала видеть его, фыркал:
— Нужен мне этот старый мерин.
Но когда в Тильзите уже ему как генералу было прислано приглашение из штаба от генерал-квартирмейстера Веймарна прибыть на военный совет, Румянцев явился.
Фельдмаршал был хмур, несколько опал лицом, под глазами явились большие мешки, и Румянцеву даже стало жалко старика: «Господи, куда ему воевать? Давно на печи сидеть надо».
— Господа генералы, — начал негромким, подсевшим голосом фельдмаршал, — я созвал вас, чтобы вместе решить, что делать дальше. Конференция из Петербурга упорно настаивает на движении на Кенигсберг. Но они из столицы не видят, что здесь творится. У нас на сегодняшний день пятнадцать тысяч больных и раненых. На дворе уже осень, а с ней холода. Фуража почти нет, как только ляжет снег, начнется падеж лошадей. Население хотя и присягает нам, но это лишь ради спокойствия. Уже идут жалобы: казаки грабят жителей, отбирая у них не только съестное, но и сено. И их понять можно, надо коней чем-то кормить, а казак ради коня на любой грех решится.
— Надо уходить на зимние квартиры, — подал голос Броун.
— Куда?
— Ближе к своим границам.
— Некоторые настаивают идти на Кенигсберг, — сказал Апраксин, даже не взглянув на Румянцева, но все знали, кто эти «некоторые».
Однако Сибильский все же заметил:
— Молодость всегда горячится. Это простительно.
Потом Румянцев сам себе дивился: как это он не вскочил, не вступился за «некоторых», за «молодость». Но сдержался оттого, что фамилия его не прозвучала на совете, а главное, пожалел он старика. И ведь действительно, положение армии было отчаянное.
Совет постановил: армии идти на зимние квартиры в Курляндию. Когда генералы разошлись, Апраксин долго сидел в задумчивости. Вошедший генерал-квартирмейстер спросил его:
— Степан Федорович, не будет ли каких приказаний?
— Садись, Иван Иванович, давай вместе посумерничаем.
Веймарн на двадцать лет моложе главнокомандующего, а оттого предупредителен к фельдмаршалу, уважителен. Присел на плетеный стул, видя озабоченное лицо Апраксина, попытался как-то ободрить:
— Что уж вы так, Степан Федорович, печальны? Как бы ни было, вы Левальда побили, не он вас.
— Эх, Иван Иванович, — вздохнул Апраксин, — кабы дело только в Левальде было. Эвон на столе два письма из Петербурга. Одно от ее высочества Екатерины Алексеевны, второе от сродницы. Прочтите-ка.
— Удобно ли, Степан Федорович?
— Удобно, удобно. Читайте. Мне интересно ваше мнение.
Веймарн взял письмо принцессы, склонился к трехсвечному шандалу, стоявшему на столе, прочел.
— Ну что ж, хорошее письмо, поздравляет с победой, желает успехов.
— В конце тоже подталкивает нас на Кенигсберг, — сказал Апраксин.
56
Пугачев Емельян Иванович (ок. 1742–1775) — руководитель крупнейшего крестьянского восстания в России. Участник Семилетней войны против Пруссии, похода в Польшу в 1764 г., русско-турецкой войны 1768–1774 гг. После подавления восстания казнен в Москве в 1775 г.