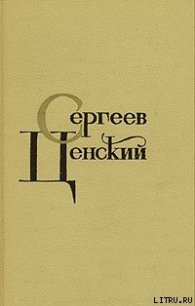Севастопольская страда. Том 3 - Сергеев-Ценский Сергей Николаевич (читать лучшие читаемые книги .txt) 📗
— Будто Чекеруль-Куша, ординарца, не убили десятого марта, папа, я ведь тебе говорил!.. А то вот, вчера только, боцмана Барабаша у нас, на Малаховом, убило ядром. Пуля его ни разу не тронула, так что он насчет пуль был спокоен. Так и говорил: «Не отлили еще, не доставили на меня пулю…» О пулях не беспокоился, а про ядро забыл. Оказалось, что ядро отлили и доставили… А знаешь, папа, кстати, что на днях наш Юрковский говорил? Будто Корнилов, адмирал, от какой-то шашки чеченской погиб.
— Как же так от шашки? От какой такой это… шашки?.. От ядра ведь…
Что ты болтаешь? — всполошился Иван Ильич.
— Ядро ядром, конечно, а шашка какая-то тут тоже замешана…
Получается так, что если бы не шашка, какая была тогда на Корнилове, он бы, может, и не погиб…
— Вздор какой-то! — вытаращил глаза отец, а сын продолжал, пожимая плечами:
— Чепуха, конечно, а почему-то Юрковский рассказывал же! Сам же над этим посмеивался, а на других все-таки поглядывал, как они отнесутся… Ты лейтенанта Железнова помнишь, папа, или уж забыл?
— Железнова?.. Это адъютант… адъютант Корнилова был!.. Как же не помню… Убит был, на пароходе «Владимир» убит.
— Ну, вот то-то и дело, что убит… И только он один из всех офицеров тогда и был убит, больше никто, а пальба была большая…
— Часа… часа два никак, а? — поискав в закоулках памяти, с усилием сказал Иван Ильич.
— Да-а, не меньше, говорят… И Железнов стоял рядом с Корниловым, а ядра с турецкого парохода этого… как его, папа? Вылетело совсем из головы!
— «Перваз», кажись…
— «Перваз-Бахры»… Ядра с него на палубу ложатся, большой треск идет… Корнилов смотрел-смотрел — ничего не выходит: может, мы его подобьем, а может, он нас подобьет. Командует, чтобы паров поддать, — и в картечь… Вот тут-то Железнов про шашку и вспомнил… Это была его шашка, он ее в Сухум-кале за тринадцать рублей купил… Показывает потом другим:
«Да это же, говорят, чистейшая дамасская сталь! Она не тринадцать, а все сто рублей стоит». — «Вполне, — говорит Железнов, — сто рублей стоит, да никто за нее и тринадцати не давал». — «Почему же это?» — «Да так уж известно почему: головы бараньи, вот почему. Шашка, мол, это наговорная, и кто ее только в сраженье наденет, тому капут! Она уж на тот свет столько отправила владельцев своих, что и не счесть, — старинной работы шашка!»
Железнов, конечно, хохотал, когда это рассказывал, а шашка оказалась такая, что любую другую, какую угодно, с одного удара пополам! А на самой и зазубринки нет… Ну вот, когда Корнилов скомандовал идти на сближение, а Бутаков приказал поддать паров, Железнов соображает: придется пароходам сцепиться на абордаж, начнется свалка, тут-то ему шашка его и пригодится.
Идет в каюту… Корнилов ему кричит: «Захватите мне пистолет, а то в случае чего, — адмиралу русскому в плен сдаваться не годится, — чтобы было из чего пулю себе в лоб пустить!..» Железнов Корнилову принес пистолет, а себе нацепил свою шашку. И только что подошел «Владимир» на картечный выстрел, турки хватили картечью… Железнову попало в голову, — и десяти минут не жил после того, «Перваз-Бахры» этот захватили, а имуществу Железнова сделали опись потом. Вот тогда-то Корнилов и взял себе его шашку на память, — Железнова он очень любил, — так шашка поселилась у Корнилова…
— Ничего… ничего не слыхал про это! — закачал седой ершистой головой отец.
— Корнилову говорили, конечно. «Смотрите, ведь шашка-то, говорят, какая-то наговорная, да и по лейтенанту Железнову судя, что-то такое есть в самом деле… Побереглись бы, ваше превосходительство!» — продолжал Витя. — Но Корнилов разве такой был, чтобы обращать на это внимание? Он только: «Пустяки, говорит, ерунда и суеверие бабье!» И как раз пятого октября, когда бомбардировка открылась и к штурму готовились, шашку эту на себя и надел, а раньше ни разу не надевал. Штурм, союзники врываются в Севастополь, — улыбнулся Витя, — на улицах свалка, сеча, — вот тут-то шашке этой и будет работа! А шашка кавказская довела его до Малахова и — под ядро!.. Главное ведь, что и сама только и жила: пополам ее ядро перехватило прежде, чем ногу Корнилова оторвать…
— Ты что-то такое интересное тут рассказываешь, Витька, — появилась как раз в это время в комнате Капитолина Петровна с Олей.
— Ер-рунда! — махнул рукой Иван Ильич, а Витя заговорил, обращаясь теперь уже к матери:
— Вот все так, мама, говорят: «Ерунда! Суеверие!» А все, между прочим, один другому рассказывают, пока по всему гарнизону не разойдется ерунда эта… Адмирала Корнилова убили с шашкой на боку, адмирала Истомина без шашки, а в общем не все ли равно? И при чем тут, спрашивается, какая-то наговорная шашка?
III
Восемь с половиной месяцев протянулось уже с тех пор, как маленькая Оля услышала, что к Севастополю идут французы, англичане, турки, и каждый день потом все лучше, все точней узнавала она, что это значило.
Пришли — и загремело со всех сторон, и не перестает греметь: ни одного дня не было, чтобы не гремело совсем. На улицах везде валяются ядра и мусор от разбитых домов и церквей; от дыма часто нечем бывает дышать; иногда приходится тащить узлы в Николаевские казармы и просиживать там неделю и больше, потому что больше уж негде спасаться, а земля все равно и там дрожит от пушек, и кажется, что вот-вот она провалится и рухнет в море весь Севастополь со всеми домами, казармами и людьми…
И все спрашивают папу и маму, почему же они не уезжают, и папа смотрит в это время на маму, а мама на папу, и папа бормочет: «Ведь все время, все время я говорю, что нам надо уехать…» А мама поправляет его:
«То есть, вернее, это я говорю все время: уедем из этого ада куда-нибудь, уедем!» — «Да мы и уедем, конечно. Разве здесь можно оставаться дольше?»
Но потом почему-то все-таки не уезжают…
Витя ходит уж сколько времени в солдатской шинели, Варя — в коричневом платье, и когда приходит домой Варя, от нее так пахнет и лекарствами и еще чем-то тяжелым, что все время за нее страшно, как это она терпит там, у себя на перевязочном. Ведь вот же лежала уж она больная, и говорили, что может помереть, а если опять заболеет и будет лежать и… помрет?
Оля раньше любила читать книжки, теперь уж она редко бралась за них.
Теперь перед ней открывалась страница за страницей такая страшная книга жизни, что ее прежние книжки стали казаться ей скучными, ненужными: прочитает несколько строк и бросит.
Она и сама не замечала, как становилась с каждым месяцем старше не на год, как защитники Севастополя, а гораздо больше, оставаясь в то же время ребенком. Ей приходилось видеть убитых ядрами и разорванных бомбами на улицах, а это и детей старит. Она вытягивалась однобоко, по мере того как Севастополь тоже вытягивался, напрягался всем своим телом, боролся с противником вполне ощутимо даже для глаз маленькой девочки.
Купол Михайловского собора в нескольких местах уже был пробит ядрами и светился насквозь, как решето; непонятно было Оле, как и почему он еще держался, не падал; кондитерская Иоганна, над дверями которой всегда так ярко сияла большими золотыми буквами вывеска, а около дверей две другие разрисованные такими вкусными на вид тортами и печеньями, теперь уже ничего не продавала, двери ее были сняты, полки, на которых стояли коробки с конфетами, пирожными и сладкими слоеными пирожками, были все разбиты в щепки залетевшей сюда через крышу бомбой… Все лавки на Екатерининской и на Морской были уже брошены купцами: одни из этих купцов перебрались в Николаевские казармы, другие — на Северную, третьи еще дальше — на Инкерман, на Бельбек…
Только один крендельщик-грек, маленький, кривоногий и кривоносый, черный, с желтыми глазами, пока никуда не уходил из своей лавчонки в подвале под толстой каменной стеной, и когда Оля с матерью ходила что-нибудь купить на обед, то непременно заходили они к этому греку. В лавчонке он не сидел; сзади нее было у него еще какое-то совсем темное логовище, и он выползал оттуда, когда они входили, точно краб из трещины в камнях… Сам ли он пек свои бублики, или только торговал чужим изделием, Оля не знала, — даже и не поднимался в ней этот вопрос.