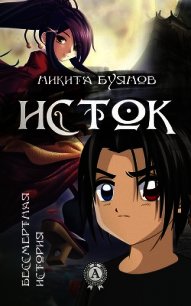Славянский меч (Роман) - Финжгар Франц (полная версия книги txt) 📗
Ошеломленный, счастливый, потерявший голову, он поспешил навстречу. «Ирина!» — ликовало сердце. «Ирина», — шептали губы. Пятнадцать шагов разделяло их.
Тень остановилась, Асбад ускорил шаги и произнес дрожащим голосом:
— Ирина!
И тут прозвучал звонкий возглас:
— Поздравляю, магистр эквитум!
Асбад задрожал всем телом.
Тень мгновенно исчезла, из-за развесистой мирты раздался злорадный смех, эхом разнесшийся по саду.
Командир палатинского легиона побледнел, кровь застыла у него в жилах. Он узнал голос Феодоры.
Золотая заря постучала в высокое окошко Ирины. Утренние лучи увидели перед иконой Христа Пантократора [87] псалтырь [88], раскрытый на 69 псалме.
«Поспеши, боже, избавь меня, поспеши, господи, на помощь мне! Да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла!..»
Исток в ту ночь почти не сомкнул глаз. До зари поучал его Радован, в котором вновь с неудержимой силой пробудился нрав бродячего певца. Он затосковал по дороге, как облако по небу, он рвался из Константинополя, и даже если бы ему угрожал меч Тунюша, он ушел бы, не промедлив ни часа.
Когда Исток надел свои боевые доспехи, собираясь на полигон, старик обнял юношу, и по седой бороде его потекли слезы.
Потом Радован пошел проститься с Эпафродитом. Ждать у дверей долго не пришлось. Грек уже работал, пользуясь утренней прохладой, — что-то подсчитывал. Увидев Радована, он удивился.
— Останься! Неужели тебе так плохо под моим кровом?
— Не могу, господин, — певец должен бродить по свету. Сын пусть остается, тем более что он не сын мне!
— Не сын?
— Не сын, говорю я, ибо ему больше по сердцу меч, чем струны. Как мог я породить его? Чтоб струны родили меч? Пусть он остается при мече, а отец уйдет, и вместе с ним уйдет песня. И тебя, о безмерная доброта, молит отец: береги его, предостерегай и наказывай, если понадобится. Пока я не приду за ним, он твой. Пусть боги хранят твои корабли за твою доброту и пусть золото умножается в твоих сундуках, подобно тесту в квашне!
— Как же ты пойдешь?
— Как хожу уже пятьдесят лет — по дорогам и тропам, по горам и долам, среди волков и татей, сытый и голодный, пьяный и жаждущий, всегда веселый и всегда беззаботный. У певца иные дороги, чем у купца.
— Если я подвезу тебя до Адрианополя, поедешь?
— Не худо ехать в телеге, ничего не скажешь. Но телега катится, не останавливаясь. Веселые люди идут по дороге, телега громыхает мимо. «Эй, приятель, ударь по струнам», — кличут певца, а телега катит дальше. Но, чтоб не обижать тебя в эту минуту, я согласен доехать до Адрианополя, если этого желает твоя безмерная доброта.
— У Мельхиора есть там дела, и он едет сегодня. Вот и подсядешь к нему. В Адрианополе он познакомит тебя с купцами, может, кто перебросит тебя через Гем. И вот возьми, чтоб не ехать пустым!
За пазухой Радована исчез мешочек с золотом.
— Я сказал, что не обижу тебя отказом и поеду с Мельхиором. Но я вернусь, вернусь к тебе и к сыну, сердце мое будет тосковать по тебе, и струны мои прославят среди славинов твою щедрость. Пусть боги качают тебя в золотых носилках! Да сопутствует тебе удача, Эпафродит, доброго здоровья тебе и всем твоим!
У дверей он сунул руку за пазуху и, пощупав мешочек, сказал:
— Певцу это не нужно, однако полезно.
Во дворе уже стоял Мельхиор; одетый по-дорожному, он отдавал распоряжения.
— Мельхиор, я еду с тобой, как велел всемогущий господин. А ты позаботился на случай, если нас в дороге застигнет жара? Погрузи сосуд-другой, тяжелей не станет.
— Ладно, ладно! Веселая компания! Радован будет петь и играть, а Мельхиор позаботится, чтоб у него горло не пересохло.
— О боги, чем я так угодил вам? — воскликнул Радован, по-юношески поспешая за своей лютней.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
На круглом, вспаханном весной поле возле Сварунова града колыхались колосья созревающего ячменя. Кое-где посреди нивы возвышался густой куст, который пахарю не хотелось выкорчевывать; он знал, что следующей весной поставит свой плуг в новом месте.
Вешние воды смыли с валов пласт земли; среди зеленого кустарника показались ржавые канавки. Стояла знойная летняя тишина. И даже с обширных пастбищ, тянувшихся до самых Мурсианских болот [89], не доносилось блеяния отар. Пастухи укрылись в густой тени и бездельничали под раскидистыми дубами.
В траве на валу сидел Сварун.
Целую зиму он не выходил из своего дома. Ни с кем не разговаривал, не отдавал распоряжений, не расспрашивал о телятах и ягнятах — сидел на овечьей шкуре, ласково глядя на свою единственную дочь, которая, притулившись возле него, пряла тонкую пряжу. Даже весна не пробудила его. Девять сыновей его пали в бою — он залечил эти раны. Но когда исчез последний сын, Исток, когда в племени начались раздоры, в душе его поселился гнев, сердце изгрызла забота, и славный старейшина хмурился, молчал по целым неделям и с тягостными вздохами призывал Морану.
Старейшина Боян, его преемник, приходил за мудрыми советами. Но Сварун не давал их.
— Ты сам мудр, Боян, поступай, как тебе подсказывает твоя мудрость! — Это были единственные слова, которые удавалось из него вытянуть.
Но когда до слуха его донеслись разговоры о том, что войско еще не объединилось и не выступило за Дунай, чтоб пощипать византийскую державу, встрепенулся старый, сгорбленный вождь, призвал к себе Бояна и Велегоста и сказал:
— Мужи, братья! Мозг мой высох, печаль выпила кровь, я — засохшая ветка на стволе нашего дерева. Только демоны еще раздувают в моем сердце искру жизни, чтоб она вовсе не угасла. Что вы делаете, братья? Чего ждете? Отмщение византийцам! Мести требуют боги, к мести взывают реки крови, мести жаждут костлявые руки с мертвыми пальцами посреди равнины! А вы ссоритесь! Ант угоняет овцу у славина, славин тратит стрелы на козлов анта. Сам Перун обесчещен! Он острит молнии и мечет их в братьев, враждующих между собой. Поднимайтесь, Боян и Велегост, спасите племя от позора, зачем же ходить голодными, когда ворота в страну врагов открыты!
Оживилось серое от старости и хвори лицо Сваруна. На висках напряглись жилы, ноздри раздулись, грудь высоко вздымалась; он порывисто дышал, словно изрыгая огонь сквозь широко отверстый рот. Глаза его вспыхнули, засверкали, сам дьявол дунул в эту кучу пепла — под ним занялся и заполыхал огонь. Словно прорицатель стоял Сварун перед старейшинами, поднимая к небу дрожащие руки. Потом он затрясся всем телом, колени его подогнулись, старейшины поддержали его и усадили на скамейку, покрытую овечьей шкурой. «Морана, приди, не дай мне увидеть позора своего племени!» Словно пламя, взметнувшееся вдруг к небу и тут же угасшее в золе, скорчился старец, еле дыша.
— Не бойся, почтенный Сварун, старейшины славинов думают, как ты. Прежде чем обернется месяц на небе, мы сообщим тебе радостную весть, что объединенное войско тронется через Дунай. Мы сами сегодня же пойдем к антам, от града к граду; если понадобится, дойдем до Днестра и до Черного моря. Обнять должен брат брата, наполнить колчаны стрелами, наточить копья и навострить топоры для совместного похода через Дунай.
Так утешал Сваруна Боян, и Велегост, важно кивая, поддакивал ему.
— Идите, мужи, возвестите мир между братьями, зажгите пламя в груди юных, поведайте им о белых костях, которые неотмщенными лежат в степях!
После этого Сварун немного ожил. Каждый день выводила его Любиница на валы, каждый день грелся он на солнышке и, заслонив глаза ладонью, смотрел в долину, откуда мог примчаться гонец с вестью: «Кончилась свара. Братья объединились. Войско идет на Константинополь!»
Колосья ячменя мирно колыхались, старец сидел в траве на валу. Вдруг ему показалось, будто вдали на юго-востоке мчится в высокой траве всадник. Прикрыв глаза рукой от солнца, он окликнул Любиницу: