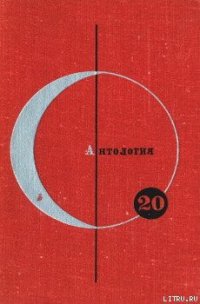Угрюм-река - Шишков Вячеслав Яковлевич (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений TXT) 📗
– Жив. Оба живы... и Ананий жив. Он в лесу, по дрова ушел... Вот ужо я огня вздую. Кто такие?
– Дальние.
– Знаю, что не ближние. Звероловы, что ли? Али городские?
Изотыч, многозначительно кашлянув, ткнул Петра Данилыча локтем и, захлебнувшись от охватившего его чувства, поспешно сказал:
– Как по писаному! Зверолов да купец. Из города. Двое нас. Ха!
– Знаю, что не четверо. Ну, разболокайтесь. Тесно у нас, да и мусорно. Хвораем вот с братаном-то. И кысоньки голодные. Кыс-кыс-кыс!
Мутно-светлые точки погасли, вспыхнули вновь, зашмыгали, и жалобное мяуканье наполнило лачугу. При свете самодельной свечи Петр Данилыч разглядел рослую, под потолок, широкоплечую фигуру чернобородого старца.
– Садитесь нето, вот тут хошь. На скамейку-то. Поди, замерзли? Поди, чайку хотите? Чаю у нас нету. Снег таем да водичку пьем. Скудно у нас.
– Не хлопочи, старец праведный, – сказал Петр Данилыч, – у меня все есть.
– Какие мы праведники? Мы грешники. Великие грешники. Как Бог-батюшка нас еще на земле носит? Свят-свят-свят. С чем пожаловал, с горем? Осиротел, что ли? Али жена ушла, али сам от нее откачнулся?
Петр Данилыч вздохнул и с волнением, смягчая голос, сказал:
– Да ни то ни се... А так как-то, середка наполовину. Сын у меня пропал.
Он стоял против сидевшего на широком пне Назария, с надеждой и скрытым, безотчетно пробудившимся страхом смотрел на его желтое, со втянутыми щеками лицо, на черную длинную бороду, на черные пряди волос, прикрывавших высокий, изрытый морщинами лоб. Назарий сдвинул густые брови и молча, пристально смотрел в глаза купца.
– Ранней весной, еще по снегу, в тайгу уехал. И как в воду, прямо сгиб.
Старец все так же грозно продолжал в упор глядеть на него. Петру Данилычу стало неловко, жутко. Кошка вскочила к нему на плечо. Он погладил ее дрожащей чужой рукой; как будто скрутился он весь и онемел под безмолвным взглядом черных устремленных на него глаз.
– Может быть, знаешь что? Скажи... – наконец выговорил он.
– Откуда же я могу знать? Колдун я, что ли? Это мужик тебе наврал про нас. Грех тебе, мужик.
Изотыч, разжигая каменку, только крякнул и вновь толкнул локтем Петра Данилыча.
– Нет, вы предсказываете, – благоговейно сказал Изотыч.
Заскрипели шаги по снегу, вошел низенький старичок, большеголовый, с маленькой седой бородкой.
– Здорово, Ананий! – поприветствовал его Изотыч.
Старичок промолчал, истово перекрестился в передний угол, где за лампадкой темнели безликие, покрытые сажей доски.
– Каково живешь, Ананий? – вновь спросил Изотыч.
– Он – молчанка. Попусту спрашиваешь. С миром он не говорит теперича.
В лачуге сделалось жарко. Петр Данилыч разделся до рубахи. От духоты и жару заболела голова. Он раскаивался, что завернул к старцам, не давшим ему облегчения, и еще раз обратился к Назарию:
– Как же быть-то? С сыном-то? Научи-ка ты меня.
– Время укажет. Ничего я не знаю... Терпи.
Переночевав у старцев, купец уехал с неприятным чувством к ним и со злобой на болтливого Изотыча.
Через двое суток он прибыл в деревню Подволочную, до крыш засыпанную снегом, грустный и встревоженный.
III
Марья Кирилловна по отъезде мужа ежедневно заказывала обедни с коленопреклоненными молебнами о здравии страждущего и путешествующего отрока Прохора.
Отец Ипат с сугубым усердием и воздеванием рук справлял заказную требу – плата была приличная и, помимо того, каждый раз сдобный пирог с изрядной выпивкой. Марья Кирилловна не пожалела бы для отца духовного и бочки самолучшего вина, лишь бы праведный Господь внял неусыпным ее мольбам, преклонил ухо стенаниям ее.
Заручившись через посредство отца Ипата Божьим милосердием, Марья Кирилловна, подчиняясь своей женской слабости, а главное – по наущению стряпухи Варварушки и приказчика Ильи, решилась обратиться с ворожбою и к шаману, сиречь к услугам адских сил самого диавола. Не обмолвилась она об этом ни одним намеком отцу своему духовному, хотя прекрасно знала, что от злостного запоя лечил отца Ипата шаман-тунгус.
И декабрьским вечером, наказав всем сказывать, что уехала в город к мужу, в сопровождении глухого дворника, белобрысого горбуна Луки, отправилась в темную тайгу за ворожбой.
«Господи, прости ты меня, грешную!» – всю дорогу вздыхала тайно душа ее, но уста безмолвствовали: нельзя имя Божье поминать, раз решилась на такое дело, нельзя даже крест на груди иметь – Марья Кирилловна ехала без креста, как изуверка.
Резвый иноходец примчал их седой ночью к тунгусскому стойбищу. На круглой поляне, примкнувшей к проезжему зимнику, ярко пылал неугасимый костер-гуливун. Под его колеблющимся светом плавно колыхался истоптанный оленьими стадами снег, а стволы деревьев подпрыгивали и дрожали, будто им снился страшный сон. Несколько остроконечных чумов мирно почивали; лишь в том, что стоял посредине, слышались крик и рокот бубна.
– Ишь ты! – воскликнул тугой на ухо Лука. – Я и то слышу. Волхвует он. О-о! Эвот-эвот, как всхамкивает!..
Марья Кирилловна, робко озираясь, с жутким чувством подходила к чуму: ей мерещилось, что вся поляна кишит нечистой силой, что в темном дыме над костром крутятся шайтаны и шиликуны: вот они увидали ее, вот с гамом мчатся к ней.
– Ай, Лука! – И бескрестной, ради сына откачнувшейся от Бога изуверкой Марья Кирилловна вбежала в чум.
В пудовой шаманьей шубе, увешанной железными побрякушками, шаман Гирманча неистово бесновался по ту сторону костра, бил в огромный бубен, гикал. А перед костром, у входа, на оленьем коврике, выставив кверху непомерный свой живот, лежала вся иссохшая, полумертвая жена его и печальными, в слезах, глазами обреченно смотрела куда-то вдаль.
Шаман был нем и глух к вошедшим. Марья Кирилловна забилась в угол и ждала. Она видела, как шаман сглатывал-сжирал болезнь жены: «Хам-ам! Агык!» – как с заклинаниями мазал жертвенной оленьей кровью и лоб, и грудь, и живот своей жены, как снова осатанело кружился у костра, вот бессильно упал наземь, тяжко застонав.
А когда очнулся, снял шаманью шубу и, выкурив подряд три трубки, сказал Марье Кирилловне:
– Здорово, Машка! Пошто прибежаль?
– Голубчик, Гирманча... – начала она. – Вот какое дело-то... – И все рассказала ему про сына, потом вынула из саквояжика дары. – Это тебе, а это жене твоей... Ради Бога... Ой, тьфу, тьфу, тьфу! Погадай, пожалуйста... Места не найду. Того гляди – разума лишусь. Сердце мое в тоске.
– Ничего... Это ладна, – радостно сказал шаман, с жадностью набрасываясь на бутылку коньяку – подарок. – Ужо пойду самый главный шайтан кликать, самый сильный... Ехать шибко далеко надо, ой-ой, как... Туда, да туда, да туда... Где найдешь? Может, твой парень сдох, в ад надо ездить, в черный день ездить... Может, сдох, как знать.
– Что ты, что ты! – слезливо скривила рот Марья Кирилловна, подняла голову – Гирманчи в чуме не было.
Звал-призывал Гирманча в тайге главного шайтана, и гортанный голос его то взлетал над чумом, то спускался в преисподнюю, был глух, придавлен.
Один за другим стали собираться в чум заспанные тунгусы. Щурясь на яркий свет, садились они живой подковой вокруг костра, приветливо посматривали на гостью: авось поднесет по чашке огненной воды, от которой вдруг станет весело в руках, в ногах, вдруг сгинет зима, мороз, болезни, каждый будет богат и силен.
Гирманча вошел усталый, бледный; с прошлой ночи он ничего не ел: нельзя. Но движения его четки, быстры. Окинув возбужденным взглядом чум, он сел на олений коврик-кумолан и потребовал костюм шамана. Ближний родственник Гирманчи подал сапоги, тяжелую шубу, шапку, рукавицы и стал над костром греть бубен: кожа натянется сильней, бубен будет говорливей, гулче.
Настроение шамана стало нервным. Он бесперечь курил, заразительно позевывал – трещали скулы, – присвистывал, что-то невнятно бормотал. И вновь без конца зевал, раздирая скулы. Взволнованная Марья Кирилловна сидела по ту сторону костра, против шамана, с упованием смотрела на него.