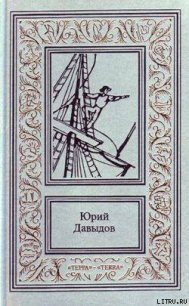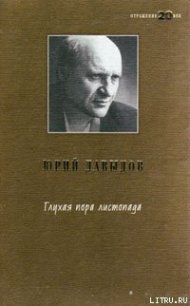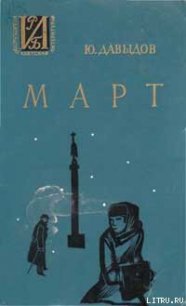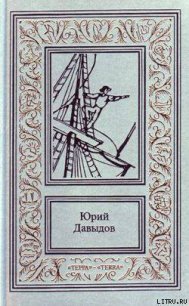Соломенная Сторожка (Две связки писем) - Давыдов Юрий Владимирович (читать полную версию книги .TXT) 📗
Всякий раз, следуя в Петербург по служебным надобностям, Корсаков, миновав Москву, сворачивал на Торжок, предвкушая свидание с сестрой Натальей Семеновной. В минувшем ноябре он телеграфировал: «Намерен быть у вас». И повеселел, когда торжокский ямщик, стрельнув кнутом, помчал зимней дорогой на Премухино.
У сестры Корсаков гостил дня два. В том самом Премухине, о котором так тосковал на чужбине Мишель Бакунин. Сестра Корсакова была замужем за его старшим братом Павлом. Корсаков, что называется, ни ухом ни рылом не был причастен к побегу Мишеля из Сибири. А на Корсакова за этот побег собак вешали: дескать, порадел. Иди толкуй, что в ту пору родственником не был, хотя Наташа давно знала Бакуниных. Да и тут, в родовом гнезде Бакуниных, на Корсакова, кажется, дулись. Во всяком случае истинным радушием не согревали. Братья, сдается, тоже были недовольны тем, что полоумный (так кто-то из них однажды и сказанул: «полоумный Мишель») из Сибири вырвался и пуще прежнего принялся в Европе за свои нелепости. Ах, Россия, Россия, все смешалось, перепуталось. По-сибирски брат всегда брат, особливо – несчастный, то есть, опять же в сибирском смысле, счастья лишенный, преступник. А тут рассуди-ка… Братья Бакунины горой стояли за освобождение крестьян, после реформы в либералах ходили, в земском деле по уши сидели, среди оппозиционного тверского дворянства запевалами были, у Третьего отделения на худом счету, а вот на братнины просьбы о материальном вспомоществовании месяцами не изволили отвечать. Братья не отвечали, а Наталья, доброе сердечко, хоть и в глаза не видела этого Мишеля, завязала с ним переписку. Деверь звал ее «милой сестрицей», был с нею на «ты». В одном из тех писем как бы и прощенья просил у Корсакова: дескать, безбожно я обманул Михаила Семеновича, навлек на него большие неприятности. Корсаков, не в пример премухинским, не только простил Мишелю великое прегрешение, но и жене его пособил выбраться из Сибири, уехала она, бедняжка, к своему непутевому, нелепому мужу.
Два дня гостил Корсаков в Премухине. Павел Александрович убил на него вечер. В кабинете висел портрет Гегеля: профессорская шапочка, большой нос, полные губы сердечком – портрет пером писан Мишелем Бакуниным. Портрет был у места: к поклонникам Гегеля причислял себя хозяин кабинета, между прочим, внешне очень похожий, как казалось Корсакову, на Мишеля. О да, гегельянец, погруженный в вопросы филозофические, моральные. А брата родного ты не обнимешь, сударь, думал Корсаков, как бы сводя счеты с Павлом Александровичем, который, право, едва не зевал, не зная, о чем говорить с этим генерал-губернатором, без пяти минут членом Государственного совета.
Бог с ними, премухинскими Бакуниными. Наташенька свет в оконце. Как она поняла обиды его и печали, сердцем поняла и разделила. На прощанье расплакалась: нехорошее, мол, предчувствие ее ужалило. «Полно, родная, что ты», – вконец растрогался Михаил Семенович… Оба не подозревали, что расстаются навсегда: немного месяцев минет, и помрет в Петербурге от брюшного тифа нестарый еще и крепкий генерал-лейтенант, член Государственного совета, не успев ничего толком присоветовать державе.
Впрочем, не совсем так: присоветовал.
В Петербурге, по обыкновению, заведенному еще Муравьевым-Амурским, остановился он в гостинице «Франция», в тех же самых покоях, что и некогда граф, – окнами в Кирпичный переулок.
Водворившись во «Франции», генерал известил об этом молодых Кропоткиных. И получил приглашение посетить заседание Географического общества, имеющее быть у Чернышева моста. После доклада Михаил Семенович предполагал вместе с князем Петром отправиться на Екатерининский канал и провести остаток вечера в милом его душе семействе. Но вышло-то не так: надобно было явиться не к Чернышову мосту, а к Цепному. И притом срочно: приглашал граф Шувалов. Тут уж выбирать не приходилось.
Корсаков был из тех высших администраторов, совершенно благонамеренных, каковые считали Третье отделение «плохим учреждением». Не подчиняясь министерству внутренних дел, оно, по его мнению, мешало, и подчас круто и сильно, спокойному, ровному развитию дел внутренних. Больше того, постоянный надзор даже за теми, кто занимал высокие посты и, разумеется, ничего худого никогда в помыслах не держал, – надзор этот был оскорбительным. Корсаков мог сколь угодно иронизировать, что его частная переписка перлюстрируется и поступает, скажем, в то же Премухино, захватанная чужими руками, но ирония не избавляла от чувства почти холопской приниженности. И вот это же чувство кольнуло Корсакова, едва он прочел адъютантскую цедулю, скрепленную подписью майора Николича-Сербоградского. А вместе с тем Корсаков сознавал, что шеф жандармов и начальник Третьего отделения граф Шувалов как бы и не сам по себе обладал всевластием, а заполучил вместе с креслом там, у Цепного моста, на Фонтанке, и в конце концов любой бы на месте Шувалова, независимо от достоинств своих и недостатков, обрел бы такую же всевластность.
Однако нынче, в этот раз, собираясь на Фонтанку, генерал Корсаков не догадывался, а знал наверняка, что именно занимает и тревожит Шувалова. Шеф жандармов был в некоторой зависимости от его, Корсакова, опытности и осведомленности. Конечно, Шувалову ничего не стоило приказать своим иркутским подчиненным изыскать то, что требовал государь император, но Шувалов предпочел обратиться к нему, Корсакову. И генерал, приморщиваясь, ловил себя на том, что это ему польстило. Было бы еще лестнее, доведись высказать свои соображения напрямик государю, но такого посредника, как Шувалов, никому не дано миновать.
Но главное сейчас было в другом: вот в этом приливе чувства самоуважения. Он прибыл в Петербург сдавать команду и волен был устраниться от шуваловских забот и тревог, пусть их делит новый генерал-губернатор Восточной Сибири. Нет, не устранился! Не из боязни раздражить первого сановника империи. Не из жажды его похвал. А потому что, пренебрегая личной обидой, полагал шуваловскую тревогу и заботу не шуваловскими и даже не государевыми, а поистине государственными. И отсюда вот это отрадное, светлое и прочное самоуважение, с каким Михаил Семенович Корсаков сел в экипаж и велел ехать к Цепному мосту.
Шувалов принял Корсакова в кабинете, где пылал камин, а за окнами, еще не зашторенными, по ту сторону Фонтанки, в косых штрихах снегопада, мрачно высился Михайловский замок, всегда вызывавший в памяти Корсакова зверскую расправу над несчастным императором Павлом.
Граф был старше Корсакова, а выглядел моложе; моложавость его холодного лица с округлым, как нарисованным, румянцем на щеках, да и моложавость всей его бравой фигуры оттенялась свежей сединой волос и черными блескучими, волосок к волоску усиками.
Следом за Корсаковым вошел кавалерийский генерал Синельников: по-солдатски обстриженный, бурый, апоплексический, тяжелый, из тех, что говорят: «Я имел счастие быть лично известен трем государям», и это действительно было так, ибо Синельников присягал еще Александру Благословенному и вот служит при Втором Александре, да еще числится в свитских. Внешность его была бы совершенно николаевско-спартанская, когда б ни круглые, с сильными стеклами очки, для пользования которыми он, как офицер, получил некогда высочайшее соизволение.
Корсаков знавал Синельникова, но не коротко. Раскланиваясь, подумал не без злорадства, что эдакий бурбон навряд придется по вкусу сибирякам, и тотчас неприятно удивился, заметив, как почтителен с Синельниковым высокомерный Шувалов. Впрочем, Корсаков погасил свое неприятное удивление утешительно быстрой арифметикой: да ты, брат, сказал Корсаков самому себе, ты еще только из школы гвардейских подпрапорщиков вылупился, а он уж, поди, в полковниках был. И все же горчило: сдаешь команду человеку, пользующемуся в сферах большим кредитом, – назначение Синельникова генерал-губернатором Восточной Сибири было уже решено, оставалось формальное утверждение и аудиенция в Зимнем.
Шувалов никуда не торопился, однако принял привычно озабоченный вид, будто ни минуты, и тотчас приступил к делу.