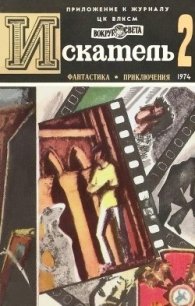Петля и камень в зеленой траве. Евангелие от палача - Вайнер Аркадий Александрович (книги бесплатно без регистрации полные .txt, .fb2) 📗
– Мы – мутанты, мы все выведены из этой породы. Из нас вышибли память и отняли понятие о достоинстве. Нас не интересует ничего, мы согласны со всем, всегда, только бы не отняли хлебово и не били бы палкой. Мы недоразвитые, плохо воспитанные дети. А детям нельзя жениться. Они нарожают социальных уродов, потомственных счастливых рабов…
– Ты меня ненавидишь? – спросил-ужаснулся я.
Она покачала головой:
– Нет, я тебя люблю. Но не уважаю… Я и себя не уважаю… Рабы не заслуживают уважения…
– Я не раб! – запальчиво, упрямо, глупо закричал я. – Ты меня нарочно топчешь, ты меня сознательно унижаешь!..
Ула скорбно, матерински-сочувственно усмехнулась.
– Зачем? – спросила она утомленно. – Зачем?..
– Затем… Затем… – захлебывался я, и вдруг меня ошеломило открытие, будто кто-то с размаху хлопнул меня доской по башке.
В этот тоскливый пустой рассветный час, когда я понял, что жизнь моя подошла к неодолимому рубежу, что больше не удастся юркнуть к боку, пронырнуть как-то снизу, обежать вокруг или вообще уклониться от решения – как это удавалось мне всю прошлую жизнь, я с ослепительной ясностью увидел для себя выход. Это было сродни возникшей писательской идее – еще неоформившейся, но все равно пронзительно-яркой, неодолимо зовущей, как предчувствие весны или нужной строки. Вся моя жизнь была полна трудностей и проблем. И не могу сказать, что она получилась. А если попробовать по-другому? Бог не выдаст, свинья не съест. Даже если меня начнут прижучивать – как-нибудь отобьюсь. Где-то прижмут, но ничего всерьез они мне сделать не могут. Да и как ни крути – все-таки тридцать годков с тех пор оттикало. Что ни говори, а времена сейчас другие.
– Хорошо, снимем сейчас с обсуждения этот вопрос… – сказал я.
– Забудем… – предложила она.
– Нет, не забудем. Пока снимем. И я тебе докажу, что я не раб!
Она ничего не ответила, но высоко поднятыми бровями спросила – каким образом?
– Я попробую раскрутить эту историю, – сказал я окрепшим голосом, в этот момент я себе нравился много больше.
– Ты же сам сказал, что этого никто не знает, – пожала она плечами.
– Я сказал – «наверное, никто не знает». И еще я сказал – попробую.
– Как же ты хочешь раскручивать эту историю?
– Не знаю, мне надо подумать. Что-то придумаю…
Мы снова недолго молчали, и я был маленько разочарован – все-таки я надеялся, что Ула сердечнее встретит мое решение. Но она просто молчала, о чем-то своем думала, потом сказала:
– Лучше бы ты в эту историю не лез…
– Ладно, посмотрим…
Скрипнула сзади дверь, я обернулся, и мне показалось – один крошечный миг – мелко трясется, еще раскачивается воткнутый в дверь огромный нож. Кинжал с черненой серебряной ручкой, весь в ржавчине и зелени.
Вздрогнул – все исчезло. Сумрак. Сквозняк гуляет…
Часть вторая
16. Алешка. Тризна
Ко мне пришла печаль. И я запил.
С утра спускался в магазин – на углу, рядом, покупал две бутылки водки, пару плавленых сырков, возвращался домой, походя шугал от дверей ватного стукача Евстигнеева, запирался, с ненавистью сдирал с себя одежду и валился на диван. И утекали вместе с выпивкой еще одни сутки.
На стуле рядом с диваном стояли бутылки, валялись старые слоново-желтые сырки, сросшиеся с фольгой обертки. И страшный бивень буфетчицы Дуськи, кошмарный трофей, добытый мной из ее пышущей жаром пасти – в предощущении непонятного тайного смысла этого кошмарного амулета.
Выпивал полстакана, вяло кусал сырок, смотрел на устрашающие корни коричнево-серого зуба, потом засыпал тревожным мелким сном, сполошно схватывался и опять дремал.
Ах, какая печаль навалилась на меня! Ее условились теперь называть депрессией. Господи, да разве это дребезжащее, присвистывающее, жестяное слово может вместить громадный черно-фиолетовый мир печали!
Разве можно назвать депрессией удрученность мира за минуту до начала грозы?
Депрессия, компрессия, экспрессия – тьфу, пропади ты пропадом!
Печаль, говорят, не уморит, а с ног собьет.
Тоска! Тоска! Ее незрячее пронзительно-зеленое око впивается тебе в душу, и мрачное небо скорби и сердечной сокрушенности медленно опускается на тебя, и свинцовая хмурь безрадостности обволакивает, палит сухота во рту от несказанных слов, и болит мозг, бессильный разродиться мыслью, которая принесла бы покой и утешенье.
Скорбь о людях и отвращение к себе подступают тошнотой под горло, и все вокруг уныло, ненавистно и безнадежно, как выжженное поле.
Туга-забота сдавила кадык мертвыми пальцами безжалостного душегуба.
Горе. Понуро и обреченно прислушиваешься к чугунному бою похоронных колоколов.
Огорчаешься, что родился на свет. Корчишься в омерзении от прожитого. И в полном ужасе ждешь встречи с Костлявой.
Я – закуклился. Врос в хитинный панцирь своей печали.
Ее отвратительный символ – жуткий Дуськин зуб. Но это не главный смысл амулета. Я вырываю себя из челюсти. Может быть – это? Нет… За окном на Садовой жадно и зло ревут машины. От натужного усердия их моторов пронзительным взвизгом дребезжат стекла в рамах, и этот трясучий вой впивается бормашиной в уши. Зубная мука души. Шофер Гарнизонов повторял всегда – ржа железо проедает, печаль сердце сокрушает…
Шофер Гарнизонов – ведь он, наверное, жив еще, Пашка Гарнизонов. Он возил в Литве отца. Гладкий ладный парень с быстрыми глазами уголовника. Он научил меня ездить за рулем – я еще ногами до педалей еле доставал. Скорость меньше ста Гарнизонов не понимал. Пешком тогда дойти быстрее – говорил он своим лукавым убаюкивающим говорком. И ослепительно улыбался – я уверен, что наш Севка у него научился этой ласковой беззаботной улыбочке. Я один знал фортиссимо этой улыбки, когда он исключительно точно, миллиметровым доворотом баранки, неотвратимо сшибал бронированным бампером зазевавшихся на дороге крестьянских гусей и подсвинков.
Где он? Незадолго до отъезда в Москву отец дал ему звание лейтенанта, чтобы получал офицерскую пенсию, нас добрым словом поминал.
Наверное, ненавидит. Только выросши, я сообразил, что он был обычный бандит – личный телохранитель, он же гангстер, кого хочешь мгновенно застрелит. Сейчас отчетливо всплыло в памяти – между передними сиденьями у него всегда лежал немецкий автомат «шмайссер». Мне дотрагиваться не разрешал: «Эта пукалка всегда на боевом взводе».
Чего мне дался этот Гарнизонов? Он разве имеет отношение к Дуськиному зубу? Или воспоминание о «шмайсере» вытолкнуло мысль – как патрон в ствол – об их ночных поездках с моим папенькой по сожженным литовским городишкам и разоренным хуторам? Как ослепительно улыбался, должно быть, Пашка Гарнизонов! Много раз я видел его, как он чистит и смазывает автомат. А может быть, это все мои выдумки.
Выдумки, рожденные моей громадной печалью. Господи, как худо! Солнце еле сочится, потом тоскливый серый дождь, прозрачные перышки облаков тяжелы, как могильная глина, грохочущая по деревянной крышке.
Взять бы бритву. По шее – от уха до уха – вжжик! И всему конец. Покой.
…Я учился в первом классе, Гарнизонов возил меня утром в школу. Без четверти восемь, еще совсем темно, свет из кухонного окна отблескивает на коротком штыке солдата у входа в наш особняк. Мороз ужасный, заиндевел металлический щиток «мерседеса», в середине которого ярко горит нежная зеленая лампочка. Гудит истово прогревающийся на больших оборотах двигатель. Гарнизонов ругается сквозь зубы – замерзла в машине печка, батька сейчас даст прикурить! У меня зуб на зуб не попадает, меня от озноба сейчас вышвырнет из моей канадской кожанки – неслыханного и недостижимого шика, нашего трофея из заокеанского ленд-лиза. Гарнизонов хватает меня в охапку и засовывает под тулуп. От шубы пахнет деревней, ядреной овчиной, от него – горьким и приятным запахом зверя. «Погрейся, потерпи маленько, сейчас лампочка погаснет – значит мотор согрелся, ветром домчимся». Гаснет лампочка, медленно замирает ее протяжный салатовый свет. Поехали. Теплеет в кабине. Только льдом обжигает нечаянное прикосновение к черному злому тельцу «шмайссера». Сон наплывает…