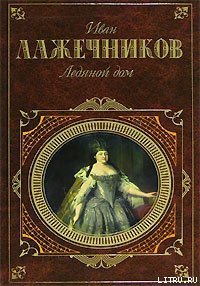Ледяной дом - Лажечников Иван Иванович (читать полную версию книги txt) 📗
При слове «вассал» Миних и Остерман встали с мест своих, – последний, охая и жалуясь на подагру, – оба смотря друг на друга в каком-то странном ожидании. Никогда еще Волынской не доходил до такой отчаянной выходки; ему наскучило уж долее скрываться.
– За это слово вы будете дорого отвечать, дерзкий человек! – вскричал вне себя Бирон, – клянусь вам честью своею.
– Отдаю вам прилагательное ваше назад! – вскричал Волынской.
– Государыня вас требует, – сказал Остерман герцогу.
– Во дворец, да! к государыне! – произнес Бирон, хватая себя за горящую голову; потом, обратясь к Волынскому, примолвил: – Надеюсь, что мы видимся в последний раз в доме герцога курляндского.
– Очень рад, – отвечал Волынской и, не поклонясь, вышел.
Собеседники, смущенные этой ссорой, которой важные последствия были неисчислимы, последовали за ним. В ушах их долго еще гремели слова: «Я или он должен погибнуть» – слова, произнесенные беснующимся Бироном, когда они с ним прощались.
– Я или он должен погибнуть! – повторил временщик, ударив по столу кулаком, когда они вышли.
– Этого гордеца надо бы хорошенько проучить, – говорили между собою стоявшие в зале, когда Волынской проходил мимо их с гневной, презрительной улыбкой.
– Его светлость! его светлость! – закричал паж.
Возглас этот, повторенный сотнею голосов по анфиладе комнат, раздался, наконец, у подъезда. Опереженный и сопровождаемый блестящей свитой, Бирон прошел чрез приемную залу и удостоил дожидавшихся в ней одним ласковым киваньем головы. Зато скольких панегириков удостоился он сам за это наклонение! «Какой милостивый! Какой великий человек! Какая важность в поступи! Проницательность во взорах! Он рожден повелевать!.. Модель для живописца!.. Жена моя от него без ума!»
Какой-то выскочка осмелился сказать, что Петр Великий и для художника и для женщин имел более привлекательности.
– Помилуйте, – отвечали ему, – у того был только бюст хорош, а у этого… все совершенство!..
Бирона ожидала у подъезда золотая карета, вся в стеклах, так что сидевший в ней мог быть виден с головы до пят, как великолепное насекомое, которое охраняет энтомологист в прозрачной коробке. И вот покатил он, ослепляя толпу и редкой красотой своего цуга, и золотой сбруей на конях вместе с перьями, веявшими на головах их, и блеском отряда гусар и егерей, скакавшего впереди и за каретой. Между тем как чернь дивилась счастию временщика, червяк точил его сердце: гордость его сильно страдала от дерзкого, неугомонного характера Волынского. «Но он погибнет во что бы ни стало», – говорил Бирон, и блуждающие от бешенства глаза остановились на бумажке, приколотой едва заметно к позументу, которым обложена была рама в карете. Дрожащими руками, как бы от предчувствия, сорвана бумажка с своего места. Он готов был задохнуться от ярости, когда прочел написанное:
«Берегись, злодей!.. Тело Горденки похищено вчера в полночь и зарыто в таком месте, откуда можно его вырыть для свидетельства против тебя. Знай более, исполнители воли твоего клеврета бежали и скрываются там, где смеются твоему властолюбию».
Эта записка имела свое действие. Она смутила, испугала герцога грозною неожиданностию, как внезапный крик петуха пугает льва, положившего уже лапу на свою жертву, чтобы растерзать ее. Он решился не обнаруживать государыне обиды, нанесенной ему соперником, до благоприятного исполнения прежде начертанных планов. Надо было отделаться и от Горденки, который его так ужасно преследовал. Собираясь зарезать ближнего, разбойник хотел прежде умыться.
Сибирь, рудники, пасть медведя, капе?ль горячего свинца на темя – нет муки, нет казни, которую взбешенный Бирон не назначил бы Гросноту за его оплошность. Кучера, лакеи, все, что подходило к карете, все, что могло приближаться к ней, обреклось его гневу. Он допытает, кто тайный домашний лазутчик его преступлений и обличитель их; он для этого поднимет землю, допросит утробу живых людей, расшевелит кости мертвых.
Глава VIII
ВО ДВОРЦЕ
Но час настал – я ничего не помню,
Не нахожу затверженных речей;
Любовь мутит мое воображенье…
– Во дворец! – закричал взбешенный Волынской и углубился в карету.
При слове «дворец» Мариорица, вооруженная с ног до головы всеми возможными обольщениями, предстала пред него.
«Там, – говорил он сам с собою, – увижу, может быть, ее, эту пленительную Мариорицу, которую не могу вытеснить из сердца, от которой сойду с ума, если она не будет моею».
Молчание ее на письмо, препятствия раздражили в нем страсть до того, что он признается в ней уже самому себе. Эту страсть называл он доселе прихотью непостоянного, влюбчивого характера. И что ж теперь? одна мысль о Мариорице – и Волынской уже не кабинет-министр, не ревностный гражданин, жертвующий собой отечеству; он просто пламенный, безумный любовник. Что за слова: честь, благородство, отечество, он их более не понимает. Он кается уже, что вспышкою своего неосторожного характера слишком рано возбудил против себя временщика и что это обстоятельство отдалит его от дворца. Безрассудный! он подрезал, может статься, в полном цвете лучшие свои надежды. В минуты мечтания о Мариорице (и, кажется, только в эти минуты) патриот Волынской готов уступить врагу, лишь бы он сделал его властелином ее, одной только ее. Тешься тогда, лукавый, сколько душе угодно, режь, души кого хочешь!.. И правду говорил Зуда: одному ль ему пересилить судьбу России в образе Бирона?..
Он погрузился в одну мысль о Мариорице. Вся душа его, весь он – как будто разогретая влажная стихия, в которой Мариорица купает свои прелести. Как эта стихия, он обхватил ее горячей мечтой, сбегает струею по ее округленным плечам, плещет жаркою пеною по лебединой шее, подкатывается волною под грудь, замирающую сладким восторгом; он липнет летучею брызгою к горячим устам ее, и черные кудри целует, и впивается в них, и весь, напитанный ее существом, ластится около нее тонким, благовонным паром.
– Карета давно подъехала ко дворцу! – раздался голос, и Волынской, встрепенувшись, видит: дверка отворена, подножки спущены, и гайдук в изумлении смотрит на своего барина, неподвижно углубленного в карете.
«Уж не удар ли с ним!» – думает слуга.
– Да, да, я задремал, – говорит Артемий Петрович.
Браня себя за свою слабость и обещаясь быть вперед благоразумнее, он спешит во дворец.
Входя в него, не заботится, как примет его государыня; он думает только о восторге с Мариорицей. Сердце его трепещет, как у молодого человека, вступающего в первый раз в свет. И вот он в комнате, где принимает его императрица Анна Иоанновна. Она забавлялась в ней игрою на бильярде, которую так же любила, как верховую езду и стрельбу из ружья.
Волынского осаждает вереница шутов разного звания и лет (их было, если не ошибаюсь, шесть почетных, включая в то число Кульковского, успевшего также явиться к своей должности). Между ними отличаются итальянец Педрилло, бывший придворный скрипач, но переменивший эту должность на шутовскую, найдя ее более выгодною, и Лакоста, португальский жид, служивший еще шутом при Петре I и прозванный им принцем самоедов. Старик Балакирев – кто не знал его при великом образователе России? – дошучивает ныне сквозь слезы свою жизнь между счастливыми соперниками. Он играет теперь второстепенную роль; он часто грустен, жалуется, что у иностранцев в загоне, остроумен только тогда, когда случается побранить их. И как не жаловаться ему? Старых заслуг его не помнят. Иностранные шуты, Лакоста и Педрилло, отличены какими-то значками в петлице, под именем ордена Бенедетто, собственно для них учрежденного. А он, любимый шут Петра Великого, не имеет этого значка и донашивает старый кафтан, полученный в двадцатых годах. Вообще все эти шуты не прежних времен; фарсы их натянуты, тупы, и как быть им иначе под палкою или, что еще хуже, грозным взором Бирона? Остроумие – дитя беззаботного веселия.