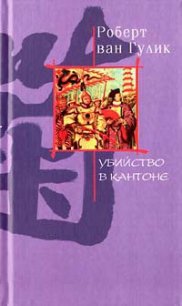Завоеватели - Мальро Андре (читаем книги TXT) 📗
— И потому, что татуировку невозможно стереть.
— Ну он бы её выжег… Этот парень умеет сильно ненавидеть.
— Умел…
Гарин смотрит на меня пристально.
— Да, умел…
И спустя минуту, внимательно рассматривая пальму, загораживающую окно, добавляет:
— А правда ли, что у Ленина даже надежда была пронизана ненавистью?
Я смотрю на него: тёмный профиль на светлом фоне. Так, значит, он все тот же. И этот профиль, не изменившийся с тех пор, как я приехал сюда почти два месяца назад, такой же, каким я его помнил издавна, — по-прежнему излучает силу и придаёт выразительность вибрациям голоса. С того вечера, когда я заходил к нему в госпиталь, он, по-видимому, начал отдаляться от своего дела, постепенно отходить от него по мере утраты здоровья и уверенности в жизни. Фраза, только что им сказанная, всё ещё звучит во мне: «Память об определённом уровне нищеты, как и мысль о смерти, служит истинной мерой всех человеческих ценностей…» Теперь смерть часто становится для него точкой отсчёта…
Входит заведующий кинематографическим отделом.
— Комиссар, из Владивостока прибыли новые киноаппараты. Наши фильмы готовы. Не хотите ли посмотреть?
Тотчас же на лице Гарина вновь появляется выражение решительности и суровости. И почти прежним своим тоном он говорит:
— Давайте.
17 августа
При Вечеу авангард красной армии разгромил часть неприятельских войск. Город снова в наших руках; захвачены две пушки, пулемёты, тягачи и большое количество пленных. Три англичанина, служившие офицерами у Ченя и взятые в плен, уже отправлены в Кантон. Дома именитых граждан, поддерживавших дружеские отношения с офицерами неприятельской армии, сожжены.
Чень перегруппировывает свои войска, не позднее чем через неделю он даст ответное сражение. Все средства, которыми располагает комиссариат пропаганды, сегодня задействованы. Начальники цехов получили приказ распространять с помощью своих подчинённых наши плакаты. Плакаты теперь — на крышах из рифлёного железа, на стеклах винных магазинов, во всех барах, в общественном транспорте, на рикшах, на рыночных столбах, на парапетах мостов, у всех предпринимателей; у цирюльников они приклеены к вентиляторам на потолке, у продавцов фонарей натянуты на бамбуковые палки; плакаты лежат в витринах универсальных магазинов и — сложенные веером — в витринах ресторанов; в гаражах они прикрепляются клейкой бумагой к машинам. Это игра, которой развлекается весь город. И куда ни посмотришь — везде плакаты, их так же много, как газет в Европе. Утром в руках у прохожих плакаты небольшого размера (большие ещё не напечатаны). На них изображены во всём своём великолепии победоносные кадеты и кантонские солдаты в лучах солнца, они смотрят, как убегают бледные англичане и зелёные китайцы, а ниже расположены более мелкие фигуры студента, крестьянина, рабочего, женщины и солдата, которые держат друг друга за руки.
После сиесты веселье переходит в энтузиазм. По праздничному городу разгуливают небрежно одетые солдаты, все жители высыпали на улицы; вдоль набережной густая толпа в молчаливом возбуждении движется медленно и торжественно. Вереницей проходят колонны с флейтами, гонгом и плакатами, за ними бегут ребятишки. Группами идут студенты, размахивая белыми флажками, которые, подобно гребешкам морских волн, то набегающих, то откатывающих назад, трепещут и взмывают над просторными одеяниями и белыми костюмами, тесными, как военная форма. Спокойная плотная человеческая масса продвигается вперед с тяжеловесной медлительностью, расступаясь перед колоннами и образуя за ними колеблющийся след из поднятых кверху рук со шлемами и панамами. На стенах — наши плакаты, а на крышах — огромные наспех намалёванные транспаранты, изображающие победу в картинках. Небо светлое и низкое. В жарком воздухе торжественное шествие движется так, словно направляется в храм. Некоторые старые китаянки несут на спине в мешке из чёрного холста сонного ребёнка с торчащими вихрами. Отдалённые звуки гонга, ракет, музыкальных инструментов и крики людей сливаются в неясный гул, который поднимается от земли вместе с невнятным шумом шагов и приглушённым стуком бесчисленных деревянных башмаков. Едкая, разъедающая горло пыль клубится на высоте человеческого роста и медленно оседает на маленьких, почти пустынных улицах, где нет больше никого, кроме нескольких запаздывающих: они спешат, чувствуя себя неловко в праздничной одежде. Почти у всех магазинов ставни или слегка приоткрыты, или заперты, как в дни больших праздников.
Никогда я не чувствовал так сильно, как сегодня, разобщённости, о которой говорил мне Гарин, одиночества, в котором мы живём, дистанции, отделяющей то, что мы несём в глубине души, от эмоций этой толпы и даже от её энтузиазма…
На следующий день
Гарин возвращается от Бородина в ярости.
— Я не говорю, что он не прав, используя смерть Клейна, как и любое другое событие. Но его желание заставить именно меня говорить на похоронах Клейна я считаю идиотским, оно раздражает меня. Ораторов много. Но нет! Он снова во власти большевистского образа мышления во всей его невыносимости дурацкого упоения дисциплиной. Ну это его дело. А я уезжал из Европы, рискуя окончить свои дни, как какой-нибудь Ребеччи, вовсе не для того, чтобы кому-то здесь повиноваться или заставлять это делать других. «Революция не признаёт половинчатости!» Ну-ну! Половинчатость будет везде, где действуют люди, а не машины… Он хочет фабриковать революционеров, как Форд фабрикует машины. Это плохо кончится, причём долго ждать не придётся. В этой голове обросшего волосами монгола большевик борется против еврея: если большевик победит, тем хуже для Интернационала…
Предлог. Истинная причина ссоры — в другом.
Истинная причина прежде всего в том, что Бородин велел казнить Гона. А Гарин, я думаю, хотел его спасти. Несмотря на убийство заложников (впрочем, кажется, Гон не имел к нему отношения). Потому что Гарин, вопреки всему, считал Гона полезным. Потому что Гарина с его людьми связывает что-то похожее на узы феодальной верности. И может быть, потому также, что Гарин был уверен: Гон в конце концов окажется на его стороне и в случае необходимости — против Бородина. Бородин, по-видимому, был такого же мнения…
Гарин верит только в силу человеческой энергии. Он не противник марксизма, но марксизм для него никоим образом не является «научным социализмом»; он видит в марксизме лишь способ организации рабочей стихии, лишь возможность вербовать из рабочих ударные отряды. Бородин терпеливо строит фундамент коммунистического здания. Он упрекает Гарина в отсутствии перспективы, в том, что тот не знает, куда идёт, и одерживает лишь случайные победы, какими бы блестящими и нужными они ни были. Уже сейчас, по мнению Бородина, Гарин принадлежит прошлому.
Гарин же считает, что Бородин действует в соответствии с перспективой, но что перспектива эта неверная. Одержимость Бородина коммунистической идеей приведёт к тому, что против него объединится всё правое крыло гоминьдана, значительно более сильное, чем то, которое поддерживало Чень Дая, в результате рабочие отряды будут разгромлены.
Гарин обнаружил (хотя достаточно поздно), что коммунизм, как все могущественные доктрины, является разновидностью франкмасонства. Что во имя дисциплины Бородин, не задумываясь, заменит его, Гарина, как только он перестанет быть необходимым, кем-нибудь другим — может быть, менее способным, но зато более послушным.
Как только в Гонконге стало известно о декрете, англичане собрались в Большом театре и снова отправили телеграмму в Лондон с просьбой прислать английские войска. Ответ был передан по телеграфу: английское правительство против всякого военного вмешательства.