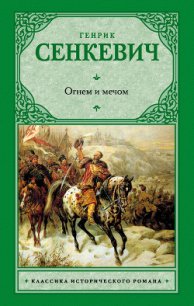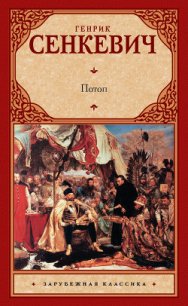Огнем и мечом. Часть 2 - Сенкевич Генрик (первая книга .TXT) 📗
— То-то и оно! — вздохнул пан Михал.
— Что поделаешь! Кто виноват, что нас ограбили подчистую? Того и гляди, протянем ноги; если Речь Посполитая не измыслит способа нас поддержать — погибнем всуе! И не диво, что самого наивоздержаннейшего по натуре своей человека в таковых обстоятельствах потянет к рюмке. Кстати, а не пойти ли нам, пан Михал, по стаканчику винца пропустить — может, на душе повеселей станет?
Так беседуя, они дошли до Старого Мяста и завернули в винный погребок, где у входа толпилось десятка полтора челядинцев, охранявших хозяйские шубы и бурки. Там, усевшись за стол и велев подать себе штоф, друзья стали совещаться, что теперь, после гибели Богуна, делать.
— Ежели Хмельницкий и вправду от Замостья отступит и настанет мир, княжна, почитай, наша, — говорил Заглоба.
— Надо спешить к Скшетускому. Теперь уж мы от него ни на шаг, покуда девушки не отыщем.
— Ясно, вместе поедем. Но сейчас-то до Замостья никак не добраться.
— Что ж, обождем, лишь бы впредь господь милостью своей не оставил.
Заглоба залпом осушил чарку.
— Не оставит! — сказал он. — Знаешь, что я тебе скажу, пан Михал?
— Что?
— Богун убит!
Володы„вский взглянул на приятеля с изумленьем:
— Ба, кому ж, как не мне, об этом знать?
— Дай тебе бог здоровья! Ты знаешь, и я знаю. Я глядел, как вы бились, а теперь гляжу на тебя — и все равно непрестанно хочется повторять это себе снова, потому как нет-нет, а подумается: такое только во сне бывает! Ух, какой камень с плеч свалился! Ну и узел ты разрубил своею саблей! Черт бы тебя побрал — просто слов не хватает! Боже милостивый! Нет, не могу удержаться! Поди сюда, дозволь себя еще раз обнять! Поверишь ли, я когда тебя впервые увидел, подумал: «Экий коротышка» А коротышка-то каков оказался — самого Богуна окоротил, не моргнувши глазом! Нет больше Богуна, и следа не осталось, прах один, убит насмерть, вечная ему память, аминь!
И Заглоба бросился обнимать и лобызать Володы„вского, а пан Михал, растрогавшись, уже и Богуна готов был пожалеть; наконец, высвободившись из объятий Заглобы, он сказал:
— Конца-то мы не дождались, а он живучий — ну, как оклемается?
— Побойся бога, что ты городишь, сударь! — вскричал Заглоба. — Я хоть завтра поеду в Липков и препышные похороны устрою, только бы помер.
— А какой толк ехать? Раненого ж ты добивать не станешь? Сабля — она не пуля: кто сразу дух не испустит, тот, глядишь, на ноги встанет. Сколько раз так бывало.
— Нет, это никак невозможно! Он ведь уже хрипеть начал, когда мы с тобой уезжали. Ой, нет, быть такого не может! Я ж ему сам перевязывал раны: видел, как грудь разворотило. Ты его выпотрошил, точно зайца. Ладно, хватит об этом. Наше дело поскорей со Скшетуским соединиться, помочь бедняге, утешить, покуда он вконец от тоски не извелся.
— Либо в монастырь не ушел; он мне сам говорил об этом.
— И не диво. Я бы на его месте поступил точно так же. Да, не встречалось мне рыцаря доблестнее его, но и бессчастнее не встречалось. Тяжкие, ой, тяжкие ему господь послал испытанья!..
— Перестань, ваша милость, — попросил слегка захмелевший Володы„вский, — а то у меня слезы на глаза набегают.
— А у меня? — отвечал Заглоба. — Благороднейшая душа, а какой воин… Да и она! Ты ее не знаешь… ненаглядную мою девочку.
И завыл густым басом, потому что в самом деле очень любил Елену, а пан Михал вторил ему тенорочком — и пили они вино, перемешанное со слезами, а потом, понурясь, долго сидели в угрюмом молчанье, пока Заглоба кулаком по столу не грохнул.
— Чего это мы слезы льем, а, пан Михал? Богун-то убит!
— И верно, — ответил Володы„вский.
— Радоваться надо. Последние остолопы будем, если теперь ее не отыщем.
— Едем, — сказал, вставая, маленький рыцарь.
— Выпьем! — поправил его Заглоба. — Даст бог, еще деток ихних понесем к купели, а все почему? Потому что Богуна зарубили.
— Туда ему и дорога! — докончил Володы„вский, не заметив, что Заглоба уже разделяет с ним честь победы над атаманом.
Глава XIV
Наконец под сводами варшавского кафедрального собора прозвучало «Te Deum laudamus» и «Монарх восшел на царствие», зазвонили колокола, грянули пушки — и надежда вселилась в сердца. Пришел конец междуцарствию, времени смутному и тревожному, особенно тяжкому для Речи Посполитой, потому что было это время всеобщего краха. Те, кого дрожь пронимала при мысли о нависших над страною опасностях, теперь, когда выборы прошли с редким единодушьем, облегченно вздохнули. Многим казалось, что не знающая примеров междоусобица окончилась раз и навсегда и новому королю остается лишь предать правому суду виновных. Чаянья эти подкреплялись и поведением самого Хмельницкого. Казаки под Замостьем, продолжая ожесточенно штурмовать замок, тем не менее заявляли во всеуслышание, что поддерживают Яна Казимира. Хмельницкий через посредство ксендза Гунцеля Мокрского слал его величеству верноподданнические письма, а с иными посланцами — нижайшие просьбы оказать милость ему и запорожскому войску. Известно также было, что король, следуя политике канцлера Оссолинского, намерен сделать казачеству немалые уступки. Как некогда, до разгрома под Пилявцами, все говорили только о войне, так теперь слово «мир» не сходило с уст. Блеснула надежда, что после полосы бедствий наступит долгожданная передышка и новый монарх залечит раны отечества.
Наконец к Хмельницкому с письмом от короля был отправлен Смяровский, и вскоре разнеслась радостная весть, будто казаки, сняв осаду с Замостья, отступают на Украину, где будут спокойно ожидать королевских распоряжений и решенья комиссии, которая должна заняться рассмотрением их претензий. Казалось, гроза пронеслась, и над страною, предвещая тишину и покой, засияла семицветная радуга.
Не было, правда, недостатка в дурных приметах и предсказаньях, однако среди наставшего благоденствия они оставлялись без внимания. Король отправился в Ченстохову, чтобы первым делом поблагодарить небесную заступницу за избрание на престол и вверить себя дальнейшему ее попеченью, а оттуда поехал на коронацию в Краков. За ним последовали сановники.
Варшава опустела, в ней остались только exules [32] с Руси, те, кто еще не смел возвращаться в свои разграбленные имения, либо те, которым возвращаться было незачем.
Князю Иеремии, как сенатору Речи Посполитой, надлежало сопровождать короля в Краков. Володы„вский же и Заглоба с одной драгунской хоругвью двинулись скорым маршем в Замостье, к Скшетускому, спеша порадовать друга известием об участи, постигшей Богуна, и затем вместе с ним пуститься на поиски княжны.
Заглоба покидал Варшаву не без некоторого сожаленья, ибо среди съехавшейся туда без счету шляхты, в предвыборной кутерьме, будучи непременным участником вечных пирушек и драк, которые они с Володы„вским затевали, чувствовал себя как рыба в воде. Однако он утешался мыслью, что возвращается к жизни деятельной, сулящей новые приключения и возможности для хитроумных затей, в чем обещал себе не отказывать; к тому же у него имелось свое суждение об опасностях столичной жизни, которое он и выложил другу.
— Конечно, мы с тобой, пан Михал, — говорил он, — премного отличились в Варшаве, однако сохрани нас бог задержаться долее, да-да, поверь, тут обабишься в два счета, как пресловутый карфагенянин, что от сладкого воздуха Капуи вконец ослаб. А от прекрасного пола и вовсе надобно бежать без оглядки. Кого хочешь до погибели доведут, потому как, заметь себе, ничего нет на свете коварней ихней сестры. Стареешь, а все равно тянет…
— Это ты брось, сударь! — перебил его Володы„вский.
— Да я сам себе частенько твержу, что пора бы угомониться, только кровь у меня еще горяча чрезвычайно. Ты у нас флегма, а во мне бес сидит. Впрочем, хватит об этом. Начинаем новую жизнь. Со мной не раз уже бывало такое: нет-нет, а на войну потянет. Хоругвь у нас — лучше желать не надо, а под Замостьем еще разбойничают мятежные шайки: даст бог, в пути не будет скучно. И Скшетуского наконец увидим, и великана нашего, журавля литовского, жердь долговязую Лонгина — с этим, почитай, сто лет не видались.
32
беглецы, беженцы (лат.)