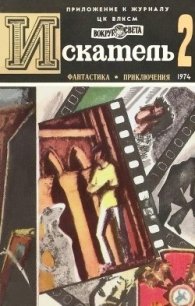Петля и камень в зеленой траве. Евангелие от палача - Вайнер Аркадий Александрович (книги бесплатно без регистрации полные .txt, .fb2) 📗
Потом пришел отец, и я слышал, как он тихо сказал матери:
– В городе – ужас. Около двух тысяч убитых. Жалко. Синилова, наверное, снимут.
Приятель отца, одутловатый генерал Синилов, был комендантом Москвы…
А на улице сыто похрипывали, круто вскрикивали сиренами – мчались «скорые помощи»…
Я снова стал погружаться в дремоту, и последняя мысль была отчетлива – меня сохранил тогда Бог на прощальной тризне людореза для важного свершения.
И снились мне в первые мгновения сна кусочки моего романа – герцог Альба принимает ванны из детской крови, надеясь продлить свою жизнь.
И великий Сатрап в посмертной кровавой купели…
И горестно качающий головой отец:
– Эхма! Какой великий человек был! Видать, правду говорят – и всяк умрет, как смерть придет…
17. Ула. Пустырь
«Когда тебе невыносимо, не говори – мне плохо. Говори – мне горько, ибо и горьким лекарством лечат человека».
Я часто слышала эти слова от тети Перл, которая запомнила их как любимое присловье нашего деда. А дед слышал их от старого цадика рабби Зуси.
Умерла тетя Перл, задолго до моего рождения немцы повесили нашего деда. Исчезла память о жизни и мудрости старого рабби с ласковым именем маленькой девочки – Зуся.
Я хожу по домам, подъездам, квартирам и на пыльных лестницах, перед бесчисленными дверями, нажимая кнопки звонков, теснясь сердцем, утешаю себя мудростью пропавшего в омуте времени цадика Зуси – я говорю себе: мне горько.
Участвую в важнейшем политическом мероприятии – избирательной кампании. Я – агитатор. Мой участок – три длинных пятиэтажных барака, заселенных рабочими семьями с одного большого завода.
Где вы, добрые и простовато-мудрые Платоны Каратаевы? Где вы – ласковые Арины Родионовны? Куда вы попрятались, буколические дедушки и бабушки, благодушные пасторальные люди?
Зачем вы кричите на меня:
– Ботинки сыми! Куда на паркет поперла!
Я ведь вам не желаю зла – я просто боюсь Педуса.
Я только хочу вам отдать приглашения в агитпункт…
– Ходють и ходють цельный день, пропада на вас нет, дармоеды, – с чувством говорит мне рубчато-складчатая крепкая бабка. Глаза у нее – тыквенные семечки.
– Бабушка, я не дармоедка, – зачем-то оправдываюсь я. – Я после работы пришла.
– К мужикам бы шла, коли делов после работы нету…
Эх, бабушка Яга, дорогая старушечка, не объяснить мне тебе, какая бездна дел у меня, и не понять тебе, что, направляясь сюда, я и думать боюсь о мужиках, ибо стоит за их спиной страшной тенью главный мужик, истязатель, стращатель и насильник – Пантелеймон Карпович…
А в соседней квартире жилистый мужичок с впалыми висками говорит мне душевно – че ж ты торописся, голубка, присядь, побалакаем, лясы поточим, про политическую положению в мире все обсудим, время есть у нас – мы-то, пенсионеры, люди неспешные, свое отбегали, времечко отторопили…
Угощает меня чаем, я отказываюсь, он беседует про политическую положению, объясняет мне важность агитации и пропаганды на современном этапе, подчеркивает, что в отличие от буржуазной машины голосования с ее продажностью, грязной погоней за голосами, уголовными аферами претендентов и лживыми заигрываниями с избирателями – у нас все наоборот. Во-первых, все по-честному…
Он прав – все по-честному. И я только не могу понять, сознательно он издевается надо мной, верит ли действительно в идиотизм своего пустословия, или он меня провоцирует. Дурман плотного абсурда заволакивает мозг. Дурь, шаль, блажь затопили низкие берега реальности.
– И-э-эх! – протяжно горюет он. – Времена чегой-то переменились! Раньше выборы – как праздник были. Помню, при Сталине еще, соревнования между избирательными участками были – у кого раньше полностью весь народ отголосует. Бывалоче – зима, мороз разламывает, шесть часов утра – темнота еще на улице, карточки хлебные не отоварены, а уже трудящиеся дожидаются у дверей – первыми бюллетень опустить. Дисциплина, понятное дело, – кто часов до десяти-одиннадцати не голосовал, тех на бумажечку, и список – куда надо…
Забыли все хорошее слово – нисенитница. Дичь, чушь, вздор, нелепица. Вкус белены на губах. Шум в ушах. Все плывет в глазах. Его впалые виски ублюдка превращаются в ямы. Это уже не голова. Голый череп. С сивым оскалом железных зубов.
Щелкают железные зубы черепа, вяло шевелится за ними толстая тряпка языка:
– У нас народ хороший, но дисциплины не знает. Оттого – вор. Я-то знаю – почитай всю жизнь в вохре прослужил. Я те на улице любого человека взглядом обыщу, сразу скажу – вот этот ворованное прет! Опыт имеется. Щас труднее стало – срам потеряли совсем. Несет ворованное, нет в нем острастки, и совесть его не гнет – шагает как полноправный. Так эть и не диво – все щас чего-нибудь воруют!
В пустых глазницах тлеют мутные огоньки – мусор догорает.
– Не помнят старых заслуг нам! Эх, доченька дорогая, знала бы ты, сколько у меня грамот да поощрений! А кому это интересно? Кто щас вспомнит мои подвиги? Я в прошлые годы сам-один, наверное, целый лагерь укомплектовал расхитителями с производства! Как огня боялись – пусть он хоть в толпе хоронится или через забор нацелится, на задние ворота метнется, я его везде глазом высеку – подь сюды! Догола раздену, а краденое сыщу! Не повадься воровать – вот те семь лет на учебу! А щас что? И-э-эх!
И стал он сразу сморщенный, маленький. Досадный промах творения. У него было высокое предназначение гончего пса, сухого злобного выжлеца, а досталась ему доля мерзкого, всем противного сторожевого человечишки.
– У нас народ хороший, но дисциплины не знает… – горько повторил он.
Воспитателями героев были кентавры – могучие и мудрые люди-кони. Образцом мудрости и героизма для подрастающих наших героев стал собако-человек – слившиеся в пугающее единство пограничник Карацупа и его пес. Кентавр Хирон взрастил бесстрашного Ахилла, хитроумного Ясона, Эскулапа. Погранпес Индокарацупа вскормил собачьим выменем Павликов Морозовых.
У нас хороший народ, а дисциплину он знает лучше всякого другого. Только этим можно объяснить, что никто из этих здоровых ребят-работяг, которых он истово и неукротимо ловил на проходной, за заборами, у задних ворот, не ударил его отнятым наганом во впалый висок, не сжал эту веревочно-жилистую шею, а послушно уходил в каторгу на семь лет. Они были согласны, они боялись. Как боюсь его я.
Я мечтаю встать и уйти, но боюсь шевельнуться, чтобы в нем не полыхнул дремлющий инстинкт выжлеца, чтобы не помчался за мной с хриплым яростным лаем, не вцепился сизыми железными зубами, не начал рвать меня и злобно ужевывать мое тело, распустив на лохмотья, спустив с меня платье, догола раздевши – а краденое нашел!
Ах, черт возьми! Исповедуем ерунду, слушаем вздор, верим вымыслу, видим нелепость, говорим дребедень, разбираем чепуху, вдыхаем дурноту, выдыхаем тошноту.
Дичь. Чушь. Гиль. Нисенитница.
А тут телефон зазвонил, бросился выжлец к аппарату кривой иноходью, вдавил трубку в яму на виске, повис на шнуре, голос дал, повел гон пронзительно, на визге взлаял, слюной кислой брызнул. Обо мне забыл. С придыханием, неутомимо гнал кого-то по следу – «общественность не потерпит… мы, домком, их породу знаем… выселять будем… по милициям загоняем…».
Бочком, тихонько, на цыпочках пошла я к двери, благополучно выбралась. И в соседнюю квартиру. Как они похожи, эти квартиры! Нигде не вкладывается столько страсти в жилье – нигде оно не достается такой чудовищной ценой. На получение квартиры уходит вся жизнь, и ее обретение – главная веха нашего бытия. Квартиры неудобные, перенаселенные, очень тесные – в нее нельзя внести шкаф и нельзя вынести гроб. Я видела однажды, как припеленывали к гробу полотенцем покойника и несли его стоя по лестницам. Это было впечатляющее зрелище – стоящий и слегка покачивающийся, будто пьяный, покойник.
И лакированный паркет. Обычный буковый или сосновый паркет циклюют, шпаклюют, морят, лакируют, полируют. И больше никогда по нему не ходят в обуви. Ни хозяева, ни тем более гости. Ходят в носках или босиком.