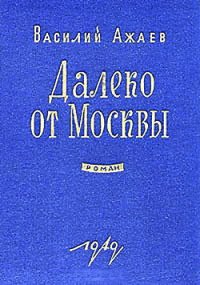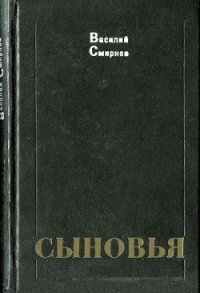Вагон - Ажаев Василий Николаевич (книга регистрации .txt) 📗
— Пусть играет, какая разница, — сказал Володя. Я понял: дает знать мне — Петров в игре.
— Ну? Вы заснули, что ли? — поторопил я, сделав вид, будто не заметил перешептывания за моей спиной.
И тут же почувствовал сильный удар по щеке и по уху, голова качнулась, едва удержался на ногах. Пахан бил не по правилам: поверх ладони и плеча, прямо по уху. Я разозлился и с трудом сдержал себя, очень хотелось дать сдачи. Возможно, удар был неспроста, провокационный.
— Петров, — сказал я возможно спокойнее. — Бьешь, дядя, неправильно. Оглохнуть можно!
— Смотри, щека сразу вздулась, — с возмущением заметил Петро и укорил пахана: — Ты что, взбесился?
— Простим на первый случай, — вступился Володя.
— Ладно, прощаю! — сказал я, потирая щеку. — Становись, води!
— Нежности телячьи! — проворчал Петров, ухмыляясь. Он был доволен ударом. — Играть так играть.
— Верно, тут кулаками надо работать, — одобрил Володя.
— Становись, становись, — торопили Петрова ребята.
Недоверчиво зыркнув на Володю и Фетисова (у меня екнуло сердце), Петров нехотя отвернулся и приложил левую руку к плечу. Правая осталась в кармане.
Не теряя ни мига, Володя молнией метнулся к Петрову и всю мощь своего тела вложил в удар. «Играть так играть!» — злорадно промелькнуло в уме. Урка рухнул с противным заячьим криком. Помня наставления Володи, я с того места, где стоял, рыбкой прыгнул на Петрова и прижал к железному полу. Левую руку его сразу схватил, правую он успел выхватить из кармана.
— Митя, берегись! — крикнул кто-то.
Пахан вертелся подо мной и неловко махал ножом, никак не удавалось прижать коленом его руку. Я схватил за рукав, но он опять извернулся. Мне все же удалось стукнуть по руке и выбить нож. Володя и Агошин яростно вцепились в пахана с двух сторон.
Мгновенно Петров-Ганибесов был водворен под нары. Его кореши не успели раскрыть рты. Они так и сидели кружком на нарах с картами в руках и растерянно глядели на Володю, подступившего к ним с ножом пахана в руке. За ним стеной стояли все мы. За нами вплотную друг к другу — «жлобы».
Скрипя и лязгая деревяшками и железками, вагон мчится в неизвестное, а внутри бушует буря. Напряжение последних дней разряжается. Все кричат, вопят, машут руками, стучат по нарам.
— Всех урок под нары! Всех до одного!
— Вон их из вагона!
— Отдавайте мои вещи, сволочи!
— Бейте их, ребята, что вы смотрите!
— Ножи у них забери, Савелов!
Неожиданный взрыв гнева, свирепый вид Володи с ножом в руках, стена людей за ним вразумляют урок. Они без возражений достают из карманов самодельные ножи, осколки угля.
— Все давайте! Слышите? — железным голосом требует Володя.
— Все отдали! Смотри! — выворачивает карманы Кулаков.
Володя протискивается к окошку и с удовольствием выбрасывает «вооружение».
— Бритву хоть бы оставил, будем теперь волосатые! — проворчал Мурзин (он по утрам брил всех желающих: своих бесплатно, чужих — за полпайки).
— Митя, смотри!
Мосолов стоит рядом и держит меня за руку. Она в крови. И рукав. И пальто. Пахан не зря размахивал ножом — порезал мне руку. Я с пылу не почуял. Мосолов ловко завязывает руку полотенцем (предварительно разрывает его на полосы).
— А здесь? — спрашивает он.
И показывает на плечо. Ого, и пальто разрезано! Теперь я чувствую боль. Вот гад! Мосолов и Фетисов стягивают с меня пальто, пиджак. Рубашка в крови.
— Ребята, он весь раненый! — кричит кто-то. — Где доктор? Гамузов, помоги.
Толпа собирается около меня. Володя потрясен, губы у него дрожат. Мосолов перетягивает руку у предплечья тряпкой — остановить кровотечение. Везет же мне с этой рукой!
— Нужен нам этот доктор! — говорит Мякишев. — Обойдемся.
Доктору не до меня. Вместе с Сашком и Севастьяновым он пытается вытащить пахана из-под нар, тот не дается.
— Не хочешь, да? Не хочешь на свет божий? Ай, какой застенчивый! Иди, иди, покажись, мою тюбетейку надень — я полюбуюсь!
Воробьев, Агошин и Птицын штурмуют нары, где сбились в углу напуганные урки.
— Сейчас вы у меня захрустите! — обещает Воробьев и многоэтажно ругается.
Крики, вопли, галдеж все нарастают. Это уже не гнев, не возмущение, это бешенство.
— Володя, что ты стоишь? — кричу я. — Их же убьют!
Володя даже не оглядывается, он пристально следит за Мосоловым и Мякишевым; они терпеливо врачуют мои порезы.
— Володя, слышишь?
— Черт с ними, Митя. Я сам готов вытащить из-под нар и убить мерзавца. Разве это человек?
Он сжимает кулаки, лицо его темнеет. Я ищу глазами Фетисова и Зимина — чего бездействуют? Зычный сильный голос Павла Матвеевича перекрывает крики и галдеж.
— Товарищи, товарищи! Уймитесь! — Зимин полустоит на верхних нарах с поднятой рукой. — Будет вам! Агошин, Птицын, уймитесь! Воробьев! Гамузов, не стыдно? Что это вы размахались после драки? Держите себя по-людски.
НАШЕ СОБРАНИЕ
Разве знал я подлинную цену слову, разве понимал, какую власть над людьми оно может иметь? А ведь мне приходилось не раз читать стихи в притихшем зале. Сейчас я с восторгом убедился: простое слово об уважении к себе, привычное «товарищ», запрещенное в тюрьме, изменило настроение людей.
Я никак не ожидал такого. А опытный человек, Зимин, видимо, понял, что наступил тот единственный час, когда можно попытаться объединить людей — тех, кого судьба закинула в этот «вагон несчастий». Помолчав, как бы ставя точку на главном, Зимин заговорил о том, что, по его мнению, нужно сделать для порядка в вагоне. И дальнейшее походило на обычное производственное совещание.
— Надо выбрать старосту, — сказал Фетисов и заулыбался. — Предлагаю Володю Савелова, он сегодня продемонстрировал свои деловые качества.
— Еще какие! — подхватил Петро.
— Голосуем! — предложил Зимин.
Проголосовали единодушно, даже с аплодисментами. Павел Матвеевич настойчиво попросил всех порыться в карманах: не осталось ли у кого оружия вроде кистеней или самодельных ножичков? Урки молчали.
— Разоружение должно быть полное и всеобщее, — сказал Зимин под общий хохот. — Если товарищи молчат, будем считать разоружение состоявшимся, доверие друг к другу прежде всего.
Две фамилии внятно прозвучали в вагоне: Голубев, Мурзин! Их неожиданно произнес Мосолов. Поднявшись, строго смотрел со своего места на корешей. Глубокая тишина вползла в вагон.
— А что? Мы ничего, пожалуйста, — пожал плечами Мурзин. — Для вас же самих.
Он протянул Володе самодельную бритву, Голубев — ножик.
— Выбросьте в окошко! — приказал Савелов.
Урки подчинились.
— А как с твоими кулаками, товарищ староста? — ядовито спросил Петреев. — Они пострашней консервных железок.
— Он их будет обматывать полотенцем, чтоб помягче!
— Пусть бьет одной левой, не до смерти!
Без возражений согласились и с таким демократическим правилом: те, кто занимает верхние нары, раз в три дня меняются местами с «голытьбой» — обитателями подвалов.
— А ты сам-то пойдешь на мое место, комиссар? — высунул снизу кудлатую голову Воробьев.
— Пойду, сегодня же поменяемся этажами, — заверил Зимин. — Если заколеблюсь, можешь стащить вниз за ноги.
— Согласен! — проревел Воробьев.
— А Петров? Нельзя простить ему кровь Митину. — Это Мякишев вспомнил папашечку.
— Что ты предлагаешь? — спросил Фетисов. — Оторвать его дурную башку? На первой же остановке сдадим стервеца конвою. Долой из нашего вагона.
— А остальное жулье? — поинтересовался Сашко.
— Думаю, они кое-что поняли. Так ведь? — Урки молчали, и Павел Матвеевич переспросил: — Можно поручиться за вас?
— Можешь, — со вздохом отозвался Кулаков. Петрову полагалось помалкивать, и он лежал под нарами тихой мышью, а Мосолов вроде отмежевался от своих. Кулаков оставался за старшего среди урок.
Все шло, как и полагается в приличном коллективе. Однако предложение Зимина вызвало замешательство. Он хотел соединить все деньги — и числящиеся за конвоем, и те, что на руках, — чтобы покупать еду в общий котел и делить поровну.