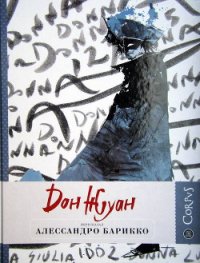Обрученные - Мандзони Алессандро (электронная книга TXT) 📗
Настоятель пригласил мать с дочерью войти в первый дворик монастыря, ввёл их в келью привратницы, а сам отправился хлопотать по делу. Спустя некоторое время он вернулся радостный и велел им следовать за собой. Появился он весьма кстати, ибо дочь и мать уж и не знали, как отделаться от назойливых расспросов привратницы. Пока они проходили вторым двориком, монах напутствовал женщин, давая им указания, как надо вести себя с синьорой.
— Она весьма расположена к вам, — сказал он, — и если захочет, может сделать вам много добра. Будьте смиренны и почтительны, отвечайте откровенно на все вопросы, какие ей будет угодно задать вам. Ну, а если вас спрашивать не будут, положитесь во всём на меня.
Они очутились в комнате нижнего этажа, откуда был вход в приёмную. Прежде чем войти туда, настоятель, указав на дверь, сказал вполголоса женщинам: «Она здесь», как бы ещё раз напоминая о своих наставлениях.
Лючия, никогда не бывавшая в монастыре, попав в приёмную, стала оглядываться, ища глазами синьору, чтобы поклониться ей, и, не найдя никого, стояла как заворожённая. Но, заметив, что монах и Аньезе направились в угол, она посмотрела туда же и увидела необычной формы окно с двумя толстыми и частыми железными решётками на расстоянии пяди друг от друга, а за решётками — монахиню.
По лицу ей можно было дать лет двадцать пять и на первый взгляд оно казалось красивым, однако это была поблекшая, отцветшая красота, и я бы сказал — носившая следы разрушения. Из-под чёрного покрывала, наброшенного на голову и ниспадавшего по обе стороны лица, виднелась белоснежная полотняная повязка, до половины прикрывавшая лоб такой же белизны; другая повязка, падавшая складками, обрамляя лицо, переходила под подбородком в белый плат, спускавшийся на грудь и прикрывавший весь ворот чёрного монашеского одеяния. На чело монахини часто набегали морщины, как бы от мучительной боли, и тогда чёрные брови сурово сдвигались. Глаза, тоже чёрные, то впивались в лицо людей с какой-то высокомерной пытливостью, то поспешно вперялись в землю, словно желая укрыться. В иные минуты внимательный наблюдатель нашёл бы, что глаза эти искали любви, сочувствия, сострадания; в другой же раз он, пожалуй, подметил бы в них мгновенное выражение давней, но подавляемой ненависти, что-то угрожающее и жестокое. Когда глаза синьоры были неподвижно устремлены вдаль, одни могли увидеть в этом гордое отсутствие всяких желаний, другие — биение затаённой мысли или какую-то внутреннюю тревогу, снедавшую эту душу и владевшую ею сильнее всего на свете. Необыкновенно бледное лицо её имело тонкие и изящные очертания, заметно пострадавшие, однако, от медленного изнурения. Губы, едва розовеющие, всё же резко выделялись на этом бледном фоне, — движения их, как и движения глаз, были внезапны, живы, полны выражения и таинственности. Крупная, хорошо сложенная фигура проигрывала от известной небрежности в осанке либо казалась иногда нескладной от порывистых, угловатых движений, слишком решительных для женщины, не говоря уже о монахине. В самом одеянии кое-где сказывалась какая-то изысканность и прихотливость, говорившие о своеобразии этой монахини: лиф был отделан с каким-то светским изяществом, а из-под повязки на висок спускалась прядь чёрных волос — обстоятельство, свидетельствовавшее о забвении устава или пренебрежении к нему, ибо правила предписывали всегда носить волосы короткими, как они были обрезаны при торжественном обряде пострига.
Однако всё это не произвело впечатления на женщин, не искушённых в монастырских порядках, а настоятель, видевший синьору не в первый раз, подобно многим другим, уже успел привыкнуть к странностям, которые замечались во всей особе и манерах синьоры.
Как мы сказали, в эту минуту она стояла у решётки, небрежно облокотившись на неё и сжав своими бескровными пальцами её перекладины, и в упор глядела на Лючию, нерешительно подходившую к ней.
— Достопочтенная мать и сиятельнейшая синьора, — сказал настоятель, низко склонив голову и сложив руки на груди, — вот бедная девушка, которой вы, по моей просьбе, обещали своё высокое покровительство, а это её мать.
Обе представленные отвешивали низкие поклоны. Движением руки синьора дала им понять, что довольно, и, обращаясь к монаху, сказала:
— Я счастлива, что могу сделать приятное нашим добрым друзьям, отцам капуцинам. Однако, — продолжала она, — расскажите мне несколько поподробнее историю этой девушки, чтобы стало ясно, что можно для неё сделать.
Лючия покраснела и опустила голову.
— Вы должны знать, достопочтенная мать… — начала было Аньезе, но настоятель взглядом прервал её и отвечал:
— Сиятельнейшая синьора, девушку эту, как я уже вам. сказал, поручил мне один из моих собратьев. Чтобы избежать серьёзных опасностей, она вынуждена была тайно покинуть родную деревню, и вот теперь она на время нуждается в убежище, где могла бы жить в неизвестности и где никто не дерзнёт беспокоить её, даже если…
— Что же это за опасности? — прервала его синьора. — Пожалуйста, отец настоятель, не говорите загадками. Вы ведь знаете, что мы, монахини, большие охотницы до всяких историй да ещё и со всеми подробностями.
— Опасности эти таковы, — отвечал настоятель, — что до слуха достопочтенной матери они должны дойти лишь в виде самых лёгких намёков…
— Да, конечно, — торопливо сказала синьора, слегка покраснев. Стыдливость ли заговорила в ней? Тот, кто заметил бы мимолётное выражение досады, сопровождавшее этот румянец, мог бы усомниться в этом, тем более, если бы он сравнил его с тем румянцем, который порой заливал щёки Лючии.
— Достаточно сказать, — продолжал настоятель, — что один всемогущий кавалер… — не все великие мира сего употребляют дары божьи во славу божию и на пользу ближнему, как это делает ваше сиятельство, — один всемогущий кавалер некоторое время преследовал эту девушку низменными обольщениями, а затем, видя бесполезность своих попыток, решил прибегнуть к открытому насилию, так что бедняжка принуждена была бежать из собственного дома.
— Приблизьтесь же ко мне вы, та, что помоложе, — сказала синьора Лючии, поманив её пальцем. — Я знаю, что устами отца настоятеля глаголет истина, но ведь никто не может быть осведомлён в этом деле лучше вас. И ваша обязанность сказать нам, действительно ли этот кавалер оказался гнусным преследователем.
Что касается первого, то Лючия тут же повиновалась и приблизилась к синьоре, но ответить ей — это уж было совсем другое дело. Если бы такой вопрос задал ей даже кто-нибудь из своих, она и то бы сильно смутилась; когда же его поставила эта важная синьора, да притом ещё с каким-то оттенком насмешливого сомнения, у Лючии сразу пропала всякая охота отвечать.
— Синьора… достопочтенная… мать… — лепетала она, словно ей нечего было больше сказать. Тут уж Аньезе сочла себя вправе прийти ей на помощь, как несомненно наиболее осведомлённая после самой Лючии.
— Сиятельнейшая синьора, — сказала она, — я могу подтвердить, что дочь моя боялась этого кавалера, как чёрт ладана, то есть я хочу сказать, что этот кавалер — сам дьявол. Уж вы меня простите, если я нескладно говорю, мы ведь люди простые. Дело в том, что моя бедная девочка была просватана за одного парня нашего же звания, богобоязненного скромного парня. И будь наш синьор курато настоящим мужчиной, в том смысле, как я понимаю… я знаю, что говорю об особе духовной, но ведь падре Кристофоро, друг отца настоятеля, тоже особа духовная, как и наш курато, а он человек милосердный, и будь он здесь, он мог бы подтвердить…
— Вы горазды говорить, когда вас не спрашивают, — гордо и гневно прервала её синьора, при этом она стала почти безобразной. — Молчите, я и без вас знаю, что родители всегда берутся давать ответы за своих детей.
Уязвлённая Аньезе бросила на Лючию взгляд, говоривший: «Видишь, как мне достаётся из-за твоей медлительности». Настоятель в свою очередь выразительно взглянул на девушку и кивнул головой в знак того, что настало время как-нибудь выпутываться и не оставлять на мели бедную мать.