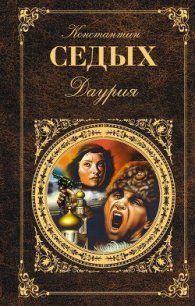Отчий край - Седых Константин Федорович (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
Через полчаса Ганька стоял рядом с Семиколенко и Чубатовым. Вокруг них толпились партизаны, любуясь добытым Ганькой конем и расспрашивая его о том, как он совершил побег почти от самой Борзи.
Под вечер партизаны ушли из Подозерной. Они спешили преградить дорогу отступающим из-под Читы и Нерчинска белым войскам. Распрощавшись с Чубатовым и Семиколенко, Ганька отправился к Корнею Подкорытову.
Он решил, что рыжка по праву принадлежит Корнею, раз не сумел он вернуть ему его воронка. Корней долго отказывался взять себе чужого коня, считая, что для крестьянской работы такой конь не годится.
— Бери, бери, — настойчиво требовал Ганька. — Другого-то нет. Я, если еще достану коня, отдам тебе, а рыжку себе заберу. Я с ним никогда не разлучусь. Не он, так мотался бы я теперь в обозниках у белых, а то, может быть, и в живых бы уж меня не было.
И Корней вынужден был уступить ему.
Через три дня Авдотья Михайловна и Ганька решили уехать домой. Федор Михайлович сам отвез их в Мунгаловский. Он подарил им на обзаведенье телку и два мешка муки.
Дома они поселились в зимовье убежавшего за границу Степана Барышникова. В первый же вечер пришли к ним на новоселье Герасим Косых, Алена Забережная с Пронькой и Никула Лопатин, чтобы помочь устроиться на новом месте. Герасим, выбранный поселковым председателем, привел Ганьке брошенного унгерновцами чалого коня, хромого, со стертой в кровь спиной. Конь не годился для верховой езды, но за дровами и за сеном на нем можно было ездить.
Никула рассказал Улыбиным, что с самой весны был мобилизован унгерноацами в обоз и мотался в нем целых два месяца. Однажды сделал попытку удрать, но был пойман и беспощадно выпорот нагайками.
— Могли бы совсем расстрелять, если бы не Кузьма Поляков, наш посельщик. Он у Унгерна служит, и мне хоть маленькая, да родня, — хвастался Никула.
— Унгерна ты видел? — спросил его Ганька.
— Так же вот, как тебя. Нагляделся я на этого белоглазого барона. Он вроде помешанный, а храбрец первостатейный. Нисколько себя не щадит. Любит под пулями на белом коне гарцевать. В руках всегда носит бамбуковую палку. Своим казакам хорошее жалованье платит и всегда чистым золотом.
— А ведь я тоже у Унгерна в обозе был и Петьку Кустова видел. Хорошо, что он меня не узнал.
— Да что ты говоришь? Ну, значит, фартовый ты человек.
От Проньки Забережного, невысокого кареглазого подростка, щеголявшего в перешитых из японской солдатской формы штанах и мундире с блестящими пуговицами, Ганька узнал, что они с матерью все полтора года прожили на одном из таежных приисков, куда не заглядывали белые. Там они мыли из старых отвалов золото и этим кормились.
Выбрались они оттуда неделю тому назад и живут теперь в зимовье Архипа Кустова. У них нет ни коровы, ни лошади, зато у Проньки есть замечательный дробовик-двустволка, подаренный ему приезжавшим на прииск ординарцем его отца Гошкой Пляскиным.
— Выходит, ты знаешь Гошку?
— Знаю! Парень на ять! Он у нас три дня прожил. Мы с ним на уток охотились двое с одним дробовиком.
— Где он дробовик взял? Реквизировал?
— Не знаю. Вот приходи к нам, сходим с ним на озера.
— А меня возьмете на охоту? — спросил, подходя к ним. Никула.
— Да ведь ты едва ходишь, куда тебе с нами охотиться, — сказал Пронька.
— Ну, паря, я такой хромой, что стоит мне только размяться, как пятьдесят верст пройду и не присяду, — весело посмеиваясь, ответил Никула и обратился к Ганьке: — А ты знаешь, кто на днях из-за границы домой приезжал? Заявился Епифан Козулин. Он хотел забрать с собой Аграфену и Верку, да они ехать с ним наотрез отказались. Поставил тогда Епифан крест на могиле Дашутки, выкрасил голубой краской, наплакался у него вволю, а потом всю ночь пили мы с ним водку… На Василия Андреевича и на Романа он беда злой. Через них, говорит, все вверх тормашками пошло.
— А им от этого ни жарко, ни холодно, — грубо оборвал его Ганька. — Епифан же просто дурак, если ему мой дядя и брат весь свет заслонили.
Пообещав дать Ганьке на время свой топор, Никула удалился своей утиной походкой.
— Ты ему шибко-то не верь. Он на других наговаривает, а сам ваше точило приспособил. Я сам это видел, — сказал Пронька.
— Ничего, отдаст, никуда не денется. А не отдаст — из горла вырву, — пообещал Ганька.
Утром Авдотья Михайловна разбудила сына.
— Завтракай, Ганя, да пойдем на кладбище. Попроведуем сегодня отца с дедушкой, спросим у них, как нам жить теперь, горемычным. Выплачусь я у них на могилках, и, может, легче на душе станет.
Мунгаловское кладбище — на склоне крутой, в сизых каменных рассыпях сопки, к западу от поселка. Горюнятся на нем высокие и низенькие, то совсем еще новые, то серые от старости кресты. Раньше было оно огорожено бревенчатой оградой. Каждое лето выкашивали на нем старики дурную траву, украшали полевыми цветами вдовы и матери кресты на родных могилах.
Теперь ограда местами обрушилась, местами сгорела от пущенного весною пала. По всему кладбищу росла густая полынь, усеянная желтыми шариками семян. Начинающие желтеть березки тихо раскачивались и шумели у развалившихся ворот.
Авдотья Михайловна и Ганька были уже на кладбище, а внизу, в долине Драгоценки, все еще лежал молочно-белый туман. В нем тонул весь поселок. Оглянувшись, Ганька увидел словно в дыму городьбу ближайших огородов, чей-то омет прошлогодней соломы.
Пройдя по влажной от росы тропинке в дальний конец кладбища, остановились они у могилы Северьяна перед высоким с косыми перекладинами крестом. Неожиданно для Ганьки мать заголосила не своим голосом, упала на заросший богородничной травой бугорок, сотрясаясь от рыданий и нараспев причитая:
— Северьян ты мой Андреевич! Ты в сырой земле непробудно спишь! Мы пришли к тебе, твои сироты горемычные. Ты проснись, пробудись, погляди на нас, муж и батюшка! Приголубь, утешь словом ласковым, научи, как жить сыну малому, несмышленому, как жене твоей мыкать горюшко…
Сначала Ганьке показалось, что плачет мать не настоящими слезами, а только справляет положенный обряд. Ему на мгновенье стало стыдно и за себя и за нее. Он растерянно оглянулся по сторонам, чтобы убедиться — не наблюдает ли кто-нибудь за ними, но кругом стояли только одни кресты. Ганька успокоился и стал слушать жгуче-жалостливые материнские причитания. И когда понял, что мать непритворно скорбит и страдает, у него стали кривиться и подергиваться губы, во рту появилась сухая тягучая горечь. И он не вынес. Как подкошенный упал рядом с матерью, уткнулся лицом в пахучую траву…
Вволю наплакавшись, увидел, что мать стоит, прислонясь спиной к отцовскому кресту, с печальным, но уже успокоенным лицом и вытирает кончиком платка мокрые щеки. Потом перешла она к могиле дедушки, поклонилась ей земным поклоном и поцеловала прибитую к кресту позеленевшую бронзовую иконку, которая стояла прежде у них на божнице в горнице.
Своим обычным голосом мать велела Ганьке нарвать цветов. Пока он собирал неяркие осенние цветы, она ждала, присев на чей-те могильный камень.
Цветы она разделила на два букета и украсила ими кресты на обеих могилах.
— Ну, а теперь пойдем, сынок. Пока живы, надо жить, — сказала она и облегченно вздохнула. Глаза ее были ясными и сухими.
«Крепкая у нас мама», — благодарно и нежно подумал Ганька.
Когда вышли на дорогу, туман в долине рассеялся. Ярко синело опрокинутое над сопками небо, радостно сияло солнце. Огромный простор родной земли широко распахнулся перед ними во все стороны. Пестрели на ближайших сопках тронутые увяданьем леса, отсвечивала бронзой и золотом ждавшая жатвы пшеница, краснели полосы гречи, лениво ходила зыбь по курчавым и рослым, на зеленку посеянным овсам.
А внизу нестерпимым блеском сверкала вода Драгоценки, летали голубиные стаи над высокими конопляниками в огородах, где еще ярко и молодо цвели подсолнухи.
Перед этой вечно новой и волнующей красотой земли острый приступ тоски и скорби сменился в Ганькином сердце величавой и тихой грустью, строгим раздумьем.