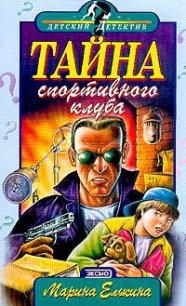Происхождение боли (СИ) - Февралева Ольга Валерьевна (книги серия книги читать бесплатно полностью .TXT) 📗
Выдра — юркий водяной зверёк в гладкой блестящей шубе. Почему бы ей не дружить с цаплей? Они могли бы даже охотиться вместе… Но вот цапля погибла… Эжен ясно увидел её, вытянутую за ногу на мокрый песок: растрёпанные крылья (взлетая, она словно ловила кого-то в объятья), уже коченеющие, а шея закрутилась, как верёвка, длинный клюв разинут, язык отслоен, глаз мутнеет, в животе — бурая рана. Он, тринадцатилетний охотник, недавно любовавшийся большой красивой птицей, должен теперь засунуть её нелепо растопыренный труп в ягдташ и тащить домой. Прижимает её крылья к туловищу, поворачивает её на бок, складывает ноги, наконец бережно прячет под крыло голову, не туго перевязывает верёвкой, затискивает в сумку и отправляется обратно; на кухне выслушивает, что чуть нужно было ещё на месте отрезать птице голову: такой огромный клюв чуть не продырявил мешок; что неправильно нёс добычу, что теперь её невозможно есть; тем не менее, к ужину подают её, тушёную с морковью, вся семья наслаждается, один убийца не может взять в рот ни кусочка; его трунливо уговаривают, но вскоре отстают, не мешают даже уйти из-за стола… Он находит голову своей жертвы на дворе, обглоданную котом, и на следующее утро относит на берег, где вчера сидел в засаде, ломает палку от сухого дуба, втыкает в песок, вешает на неё останку (она сурово клонит клюв), вместо крыльев цепляет лохмотья чьей-то выброшенной юбки, насматривается, наплакивается и уходит, надеясь, что больше не увидит ни одной живой цапли.
((Уже через месяц вороны растащили пугало, а по песку гуляла живая цапля. Видел их Эжен потом и во сне, и в яви, и летящими, и дремлющими на берегу. И стрелять их он соблазнялся ещё несколько раз, но никогда не ел. К пятнадцати годам он вообще отказался от дичины, не прикасался ни к зайцам, ни к уткам, ни к перепелам)).
От крестца до лопаток мгновенно вырос и сгорел с корня куст озноба, слегка свело ноги. Эжен сосредоточено сжал пальцами лист, постигая, насколько тот отсырел…
Тут в дверь к нему постучали с вопросом:
— Вы там живы?
От одного допущения вероятности, что могли и заглянуть, Эжена окатил холодный пот.
— … Дайте мне ещё минуту, — отозвался он, чуть не заикаясь.
Вышел через три. В помещении со свечой в клетке упрекнули:
— Что ж вы фонарь-то — забыли?
— Да, извините. Я так легко осваиваюсь в темноте…
Ему уступили стул возле третьего стола, за которым велись записи, поставили глиняную кружку с горячей водой.
— Глотните-ка… Получше вам?
Эжен отхлебнул, не поднимая кружку, только наклонив её за ручку; на вопрос — покивал.
— Что же нам с вами делать?… На улице — чёртов ад, снег по уши, ветрище… И час уже поздний… Придётся вам у нас ночевать… Только тут ещё человек триста: кто в кабинете на верху, кто рядом… Здесь, похоже, когда-то тюрьма была, теперь — так, караулка, ну, и пускаем на ночь всякий сброд. Это, конечно, не про вас. Для вас мы бы инспекторский кабинет открыли — там хорошо, да он там сам засел — пьёт, бедняга: жена сбежала.
Участливый жандарм набросил Эжену на плечи свою шинель и поманил за собой; нашли лестницу, выбрались на цокольный этаж, немного нейтрального перехода и — дверь в довольно приличное казённое помещение, типичный участок, куда сгоняют мелких воришек, а теперь там разместилось дюжины две женщин, одетых пышно, но бедно. Одни дремали в обнимку, другие тихо перебалтывались, привыкшие ночами бодрствовать.
— Вот такая вам представляется компания, — голос жандарма сразу сделался бездушно развязанным. Ночевальщицы обстреляли Эжена насмешливыми приветствиями, оценками, зазываниями. Он же посмотрел в лицо проводнику и сказал:
— Это не годится.
Женщины загвалтели, как потревоженные чайки, а Эжена свели в длинный туннель, посреди которого тянулся путь, отграниченный решётками. За ними у стен рядами стояли нары, и всё отгороженное пространство было занято людьми, тёмными, в лохмотьях. Они лежали повсюду, друг на друге, как сваленная в кучу мёртвая рыба. Много стариков, старух, немало и детей. Провожатый сразу сморщился и зажал нос. Эжен только отметил про себя, что кислорода тут очень мало, а тепла вовсе никакого нет.
— Ну, не в этом же хлеву!.. — взмолился жандарм.
— Может, вернёмся в мертвецкую?…
Но стол, недавно покинутый Эженом, принадлежал уже кому-то другому — сморщенному, мокрому, похожему на большую тряпичную куклу. Стопы, вытянутые, вздёрнутые носками или разведенные на девяносто градусов у обычного лежащего человека, у этого — распались в развёрнутый угол.
— Притащили — ещё дышал, — сказал товарищу Марквар, отрываясь от нового протокола.
Над покойным шептал священник. Бьяншон стоял, отвернувшись ото всех, левой рукой обнимая себя, правой, упавшей, держа за дужку очки.
— Как вас зовут? — спросил Эжен у того, кто дал ему свою шинель.
— Гийом Сельторрен. А что?
— … За ночь их будет ещё много… Придётся в хлев…
Вскоре Эжен оказался за решёткой среди последних голодранцев. Видно было, как жандарму жаль и его, и своей одежды, обречённой провонять нищенской грязью. Он грубо пихнул одного из бродяг, сгоняя его с нар:
— А ну, катись, свинья, дай место дворянину!
Тот не поднял глаз, покорно скрючился на полу.
— Смеётесь вы что ли? — укорил Эжен своего покровителя, — Какие здесь дворяне!
Тот ничего не ответил и быстро ушёл.
Эжен привык знать, что дворян все ненавидят, и, оставшись один среди бедняков, ждал нападения, кляня Сельторрена и не решаясь даже сесть. Но ничего не происходило; лишь немногие покосились на нового ночлежника и отвернулись, точно в испуге.
На смену его собственному страху пришли пустые вопросы: почему жандарм повёл себя так, слово ему вздумалось натравить этих людей на пришедшего. Намеренная провокация? — Вряд ли. Уж скорей тут выскочила личная обида. Может, он из тех аристократов, что потеряли всё в лихие девяностые и не смогли восстановить ни прав, ни имущества… А сорвал зло именно на этом типе он наверняка случайно. Просто поблизости к решётке приварено блюдце, на котором плавится сальная свечка, еле мерцающая в духоте, но всё-таки здесь посветлей; свет придаёт решимости…
Присел на край топчана, кутяась: знобило; дышать было трудно, прежние боли не стихали; голова тяжелела, и в ней навязчиво гудела, скрипела, ржаво верещала, вьюжно подвывала изуродованная бальная музыка. Эжен снова заплакал, стиснув зубы, как в детстве, когда не мог уснуть от холода и голодной рези в желудке.
Тут к расплывшемуся огарку подковылял ветхий, сгорбленный, трясущийся старик и стал сгребать почерневшими ногтями оплывшее сало, чтоб совать себе в бороду, похожую на высохшие корни чесночного клубня. Опалённый жалостью, Эжен вскочил, обнял его за плечи и зашептал в его заросшее паршой ухо:
— Господин! Потерпите немного, мы выйдем отсюда вместе. У меня есть деньги. Я вас накормлю!
Старик глянул диче волка, что-то хрипнул, ощупал шинель и потянул её на себя.
Эжен уложил его на своё место, позволил стащить дар Сельторрена и пошёл к другим, повторяя, как его зовут, где он живёт, что он богат и купит всем еды, одежды, даст жильё, а все смотрели на него только с тоской. Обойдя всех несчастных, он кое-как отыскал своё ложе. Никто не завалился в соседи к старику, хотя на всех нарах лежали по двое, а то и по трое: наверное, тот был уж слишком грязен и казался заразным, даже нищие им брезговали, дворянину же ничего не оставалось, как прикорнуть спиной к спине.
Сон обошёлся с ним, как кошка — с мышью: долго мучил, отпуская и ловя, и только через час пожрал.
Глава XLVI. Аборигены Царства Правды
Странница проснулась без обиды и испуга. Камни, на которых она лежала, распались в мягкую чёрную пудру. Руки Анны сами собой создали из пыли новую одежду — более похожую на пилигримскую, даже голову покрыли самотканым чёрным платком. Благодатной находкой стала давно забытая булка, взятая наверху, у печей — она лежала рядом, чистая и не зачерствевшая. Съев её всю, Анна восславила Всевышнего, встала, подобрала посох и пошла дальше.