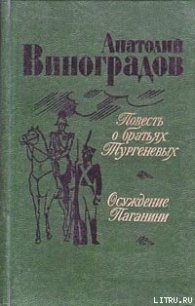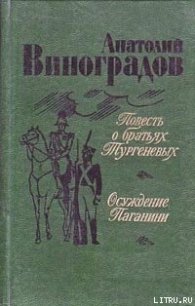Черный консул - Виноградов Анатолий Корнелиевич (книги без регистрации полные версии TXT) 📗
— Я принес чертежи, — сказал он, чтобы начать разговор, и вынул из-под плаща папку с кипой иллюминованных кроков, на которых были занесены десятки планов, чертежей владений, домов, расположения этажей; все это безмолвно выкладывалось перед молчаливым офицером.
— Во сколько оценен вот этот? — спросил офицер.
— Вы знаете, что правобережные ценятся дороже. Со времени декрета все дома подорожали. Я могу вам устроить перепродажу любого из тех, что вы видите перед собой, — все зависят от того, насколько вы обеспечите меня самого.
— А как думаете вы, граф, — вдруг резко перебил собеседник, — во что ценятся собственные ваши имения? Уверяю вас, что не больше вашего титула — графа де Сен-Симона.
Сен-Симон вспыхнул, слегка откинулся назад, но потом, быстро овладев собой, сказал:
— Послушайте, лейтенант Бонапарт, я неоднократно просил вас воздерживаться от свойственной корсиканцам грубости. Если вы хотите пользоваться моим бедственным положением, если вы применяете мои силы, мои старые связи для улучшения ваших коммерческих дел, если вы скупаете за бесценок и продаете за баснословные цены дома моих друзей и моих родственников, если вы сдаете купленный у меня дом актеру Тальма и запрещаете мне самому ходить в этот дом, — так это вовсе не значит, что я бесконечно способен сносить ваши унижения, встречаясь с вами по кабакам и притонам Парижа.
Молодой Бонапарт улыбнулся холодно и сказал:
— Успокойтесь, я позабыл, что нельзя вас называть. Не тратьте много слов, я выберу вот эти четыре дома. Сколько вам сейчас нужно на расходы?
Потомок герцога граф Анри де Сен-Симон вычислил что-то на листке бумаги и показал листок Бонапарту. Тот метнул взглядом, проверил цифры и, спрятав листок в кожаную сумку, достал пачки ассигнатов.
— Не давайте корсеты, эти несчастные пятиливровые ассигнаты теперь ничего не стоят, — сказал Сен-Симон.
— Они мне стоят столько же, сколько вам, — ответил Бонапарт жестко, — прощайте.
Не проверяя, Сен-Симон быстро спрятал деньги и, не прощаясь, отошел от стола.
Офицер Бонапарт допил кружку вина, оставил деньги под опрокинутым стаканом и быстро вышел спешащей, довольно гневной походкой, свойственной ему лишь с 20 апреля 1792 года, то есть со дня объявления войны герцогу Брауншвейгскому, обещавшему сжечь Париж, когда эта походка стала модой армейских патриотов.
Было 2 сентября, ясное небо перед закатом просвечивало сквозь аллеи. На острове Сен-Луи до самого моста, по мостам Мари и Порт-о-Бле почти не было движения. Приказчицы из магазинов, парикмахеры и девушки ночных профессий плясали под звуки уличной музыки. Несколько насмешек брошено в сторону офицера, мрачного человека в черном плаще, вошедшего на мост.
Занятый своими мыслями, Бонапарт не заметил и не ответил на насмешливые возгласы девушек. Темно-синие, лиловые облака принимали самые причудливые очертания. Там, где над западом Парижа, казалось, кончался мир и в зеленоватом небе плавали очертания далеких рощ, безветренный вечерний день парижской осени был полон тишины. А здесь солнце, деревья, улицы и дома сияли спокойной ясностью, никак не отвечая на то, что тревога была в каждом сердце, что где-то на границах Франции захватили Лонгви, что соединенные войска европейских монархов вместе с армиями принцев врезались клином, не нынче-завтра угрожают подступом к Парижу, и проклятый королевский двор из четырехсот семей, и проклятый дворянский строй и тридцать тысяч дворян снова начинают впиваться в тело двадцати пяти миллионов народа, выпивая девять десятых того, что сделано его крестьянами и его ремесленниками, его деревенскими и городскими руками. Не лучше ли смерть, чем такая покорность судьбе? Но солнце не было с этим согласно, не были согласны с этим птицы, не были согласны с этим облака, таявшие над краем земли: они безразлично смотрели на тревоги каждой личной судьбы, на массовую тревогу клокочущего Парижа.
Бонапарт взглянул на часы: скоро заходит солнце; идти в кафе Манури небезопасно, ходить по улицам — утомительно, возвращаться домой, где бестолковый Бурьенн опять начнет рассказывать о выступлениях Робеспьера в Парижской коммуне, — это не менее скучно и утомительно. Что из того, что, помимо Законодательного собрания, выбранного якобы всей Францией, есть еще Коммуна Парижа, выбранная всеми парижскими ремесленниками в сорока восьми секциях, что из того, что главная и секционные Коммуны ведут свою парижскую политику и стремятся навязать ее всей стране! Эта борьба продлится долго. Коммуна гордится тем, что ее вмешательство решило участь короля. Однако вооруженный ремесленный Париж не осмелился тронуть Легислативу. Ремесленник оказался зачарованным пением жирондистских соловьев. Бонапарт тихо засмеялся:
— Сбывается миф о том, что под музыку Орфея волки ложатся с овцами и тигры с телятами. Хватит ли духу жирондистам-музыкантам продолжать эти песни без передышки?
Вдруг вспомнил по дороге, что предстоит большой платеж в этот вечер. Предложение обедневшего графа на перекупку одного из богатых эмигрантских домов совершенно нарушало платежный план. Что-нибудь одно: или состоится перепродажа этого дома, и тогда бедному офицеру в Париже можно будет полгода существовать сносно, осуществить кое-какие затеи; или сегодня же пойти расплатиться с кредиторами, и снова весь барыш прошлой недели вместе с дымом камина улетит в трубу. Решение было мгновенно: «Что из того, что эти два ростовщика, Жозьер и Цюбал, подождут еще три-четыре дня, — разве они не берут сатанинских процентов?!»
Высокий массивный портал Нотр-Дам де Пари вырисовывался впереди. Бонапарт остановился около берега Сены в раздумье. Не нынче-завтра отъезд в армию, не нынче-завтра продвижение союзных войск в направлении Верден — Париж, и все это в день, когда безумие охватило Францию, когда заколебались прочные достатки, земля переходит из рук в руки, — ни знатность, ни богатство не спасают человека. За решеткой, среди желтеющих листьев сквера Нотр-Дам, там, где в каменном шестиугольнике возвышается готическая башенка со статуей мадонны внутри, два человека оживленно разговаривали, прогуливаясь взад и вперед по тропинкам, заросшим травой. Запущенный сквер был одним из тех пустырей, которыми изобиловали сады и церковные дворики Парижа.
Бонапарт остановился около решетки и на мгновение прислушался к разговору. Одного из говоривших он знал: это был юноша в круглой шляпе с узкими полями, в светло-голубом сюртуке с большим черным бархатным воротом; ботфорты с желтыми крагами, серые штаны и хлыст в правой руке; черты лица необычайно правильные, похожие на рельеф греческой медали, глаза мечтательные и нежные, совсем не мужественные, — это был поэт Андре Шенье. Он говорил горячо и громко, сбивая хлыстом головки чертополоха. Рядом шел спокойный старичок маленького роста, без шляпы, в сером парике, держа кожаную книжку и зажимая указательным пальцем недочитанную страницу.
«Вот какой этот доктор!» подумал Бонапарт, услышав, как поэт Шенье обратился к своему собеседнику, называя его «уважаемый доктор Гильотэн».
Доктор и поэт, очевидно, спорили давно. Старик, не разжимая маленькой книжки, указывал ею на головки чертополоха, падающие под ударами хлыста, и говорил:
— Она гораздо милостивее вас. Ваше поэтическое движение хлыстом сшибает головки ни в чем не повинного чертополоха, а моя машина режет головы тому бурьяну, который растет на человеческой ниве. Вы вашим ударом подламываете половину стеблей, а моя машина режет быстро и чисто, и уверяю вас, что страх смерти — это глупый и нелепый страх, так как моя машина дает человеку секундное ощущение освежающей прохлады, не причиняя при этом ни малейшей боли.
— Вы чудовище! — говорил Шенье. — Тратить так много времени на такую отвратительную машину можно только нося в душе ад, и если бы я знал, что вы говорите правду, будто мои стихи были вам отдыхом в промежутках вашей варварской работы, я никогда бы не написал ни строчки. Я чуждался встречи с вами.
— Вы неблагодарны, — сказал Гильотэн. — Я сдал один чертеж машины в Национальное собрание двадцать восьмого ноября тысяча семьсот восемьдесят девятого года. Я никогда не занимался этим вопросом специально. В одной старой миланской хронике я нашел чертежи скотобойни герцога Сфорца. Это были хорошие мясники, прекрасные ломбардские скотоводы, — я только улучшил чертежи старой миланской машины. Национальное собрание не обратило должного внимания на мой чертеж, людей не избавляли от жизни, а калечили прежним варварским способом. Теперь для спасения отечества нам нужно или открыть школу палачей-великанов, или пускать в ход мою машину, с которой справится малый ребенок.