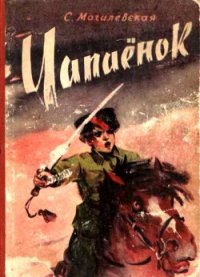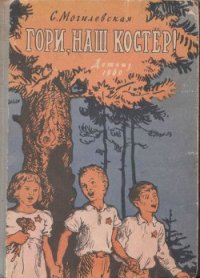Театр на Арбатской площади - Могилевская Софья Абрамовна (первая книга txt) 📗
И Саня сдалась. Хмуро, сквозь зубы процедила:
— Поеду… — а более ни слова.
А Степан Акимыч, тот вдруг воспрянул духом. Как узнали, что он остается при театре, все к нему:
— Степан Акимыч, от гардеробной ключи…
— Акимыч, будь благодетелем, кое-чего принесу из дома, спрячь! У тебя-то не разворуют…
И с тем и с этим, и с одним и с другим. Всем стал нужен.
Даже сам управляющий, сам Майков, сам Аполлон Александрович зазвал его в свой кабинет и самолично стал давать распоряжения: и чтобы все театральные двери были замкнуты крепко-накрепко; и чтобы все уборные тоже не стояли открытыми; и чтобы Занавес берег, ибо художником Скотти занавес разрисован; и чтобы смотрел бы за обивкой кресел да в ложах бенуара. А главное, чтобы никого в театр не пускал… Ни единая душа чтобы порога не переступила, понятно?
Степан Акимыч кланялся. Говорил, чтобы ехали в полном спокойствии, беречь он будет театр и все имущество как зеницу ока.
Напоследок Аполлон Александрович похлопал старика по плечу и обещал по возвращении исхлопотать ему пенсию и какую-нибудь награду. Вынул из кошелька золотой империал, протянул:
— Вот тебе — ешь, пей да не жалей!
Сроду Степан Акимыч таких денег в руках не держал.
Да разве в деньгах дело?
К себе в каморку вернулся окрыленный, хотя еле волочил ноги от предотъездной кутерьмы, какая творилась в эти последние часы в театре.
— Не в том дело, Санечка, что пенсион али какая награда… Главное, что сгодился! Хоть не могу по старости лет грудью стать на защиту отечества и матушки-Москвы, а все же пригоден. Пригоден же, а? Шутка ли, на этих вот, на моих руках все оставлено — весь театр огромадный и все театральное имущество. Честь-то какая!
Потом оба решили, что нужно и Анюту уговорить вместе с актерами ехать из Москвы. А уж ежели не захочет без своей барыни, пусть и барыня едет во Владимир. Ведь мадемуазель Луиза Мюзиль не кто-нибудь, а тоже актриса Арбатского театра!
Санька повеселела: все-таки вместе с Анюточкой в чужих местах куда лучше, чем одной.
Накинула на голову платок и полетела в Скатертный переулок. Там теперь Анюточкина барыня нанимала небольшой флигелек у вдовой чиновницы. И сомнений у Саньки не было, что уломает Анюту ехать вместе во Владимир.
А лучше бы не видели ее глаза то, что увидели. И лучше бы не слышали ее уши то, что услышали…
Глава пятая
В которой Саня снова на Тверском бульваре
Переулками, переулками, переулками… Из одного в другой, из другого в третий, чтобы покороче, чтобы побыстрее… Бежала Санька в Скатертный, пересекая Арбат и Поварскую.
Когда перебегала Арбат, Москва показалась ей еще шумной и многолюдной. Со стороны Дорогомилова, поднимая тучи пыли, по мостовой тянулись военные повозки и фуры с тяжелоранеными, за повозками шли те, кто мог идти пешком.
И на Поварской тоже видела длинные вереницы обозов. Эти ехали, однако, в обратном направлении, в сторону Кудрина, чтобы потом свернуть направо и уже по Садовой выехать за пределы города.
А в переулках все словно бы вымерло. Пусто. Безлюдно. И большие богатые дома в глубине садов за узорчатыми оградами, и небольшие особнячки с антресолями под крышей, и совсем маленькие флигеля и домишки — все стояли покинутые, с заколоченными дверями, с окнами, плотно прикрытыми ставнями. Стояли будто ослепшие, будто оглохшие, будто неживые…
Редко-редко возле какого-нибудь дома судачили дворники, оставленные хозяевами стеречь добро. В Хлебном переулке один помоложе чуть ли не перегородил Саньке дорогу:
— Эй, красавица, куда спешишь-торопишься? Уж не Бонапарта ли встречать?
— А то побыла бы с нами, — подхватил другой. — Вместе злодеев встретили бы… Куда как весело!
Оба засмеялись, а Санька метнулась в сторону и припустилась еще быстрее. Еле дух перевела, когда из Хлебного завернула в Столовый переулок. Подумала: «Вот охальники!.. Креста на них нет. В такое-то время да шутки шутить! — И еще подумала: — Может, Фекла нальет миску щей или какой лапши с грибами. Или, на худой случай, даст каши с постным маслом. Что-то они с дедушкой Акимычем давно на сухомятке, вроде бы оголодали».
Наконец прибежала. Вот он, Скатертный переулок. Вот старая липа во все стороны раскинула ветки. Вот на углу и белый флигелек пятью окошками смотрит в переулок. Стоит как прежде: и окошки зрячие и на окошках кисейные занавески. А из дома доносятся развеселые голоса. А развеселые-то почему?
В дом Санька вошла с дворового крыльца. И не так чтобы сразу. Сперва постояла. Дух перевела — очень запыхалась, пока бежала.
А отдышавшись, отворила дверь в кухню. Увидела здешнюю кухарку Феклу, поклонилась:
— Доброго вам здоровья, тетенька Фекла!
Из себя Фекла тощенькая, как монашка всегда в черном. И платок на голове тоже черный, до самых бровей спущенный, тугим узлом стянутый под подбородком. Поглядеть на нее — до того злющая, не подступись.
Но Санька знала: добрее Феклы разве лишь один дедушка Акимыч. Сколько раз их выручала! Ведь иные дни они с дедушкой только тем и сыты бывали, что им Фекла разные хозяйские остатки посылала.
— Мне бы Анюту, — сказала Санька и сразу осеклась. Глаза у Феклы сумрачные, губы зло поджаты.
— Вы что, тетенька Фекла? Или гневитесь на кого?
Ничего не ответила Фекла, лишь кивнула на дверь, которая из кухни вела в комнаты. А за дверью говор, смех, звон посуды. Неужто гости?
О господи, до гостей ли в такое время!
Посмотрела на Феклу, а та ей в ответ уже не кивком, а словами:
— Радуются французишки…
— Радуются? — У Саньки глаза на лоб полезли.
— Не слышишь? Виват орут. Все виват да виват… Антихриста ждут в Москву. — И Фекла вдруг тихо заплакала, утирая грязным передником глаза и нос. — Уйду от нее, от мамзели… Мы ее жалели, привечали, а она, подлая, нашей беде радуется. Уйду, уйду, нынче же уйду.
— Анюта где? — спросила Санька.
— Прислуживает.
Оттуда, из комнат, по-прежнему доносился веселый смех и хрустальный звон бокалов, и чей-то мужской голос весело крикнул: «Виват! Виват!»
— Бедная!.. — воскликнула Санька.
— Кто? Анютка? — У Феклы недобро сверкнули глаза. — Вместе с ними орет, вот те и бедная…
Вдруг дверь в кухню нараспашку — легка на помине. Анюта! Веселая, розовая, кудряшки взбиты, в каком-то новом воздушном платье с хозяйкиного плеча. Увидев Саньку, сперва смутилась, отпрянула было назад. Но тут же, всплеснув руками, кинулась к ней. И заверещала, и закартавила, и затараторила русские слова на французский лад, а французские выговаривая по-русски. Все вперемешку. Обо всем сразу.
— Как хорошо, ta ma belle, что пришла… А gran pere? Здоров? Eh bien… А мы тут собрались… Нет, ты посуди, ma chere…
— Ты-то чему радуешься? — Санька отстранилась, когда Анюта пыталась ее обнять.
— До чего ты непонятливая, mon ange… Ведь совсем близко великая армия. Давеча ночью мосье Ториак с крыши видел, в подзорную трубу… Огни, огни, огни… Как придет великий Наполеон… Варварские наши обычаи…
Санька глядела на Анюту и ушам своим не верила. Рехнулась, что ли, девка? Что она языком треплет? Как язык у нее ворочается? Этакие слова…
И молча, со всего маха влепила такую затрещину, что щека у Анюты стала вмиг малиновой. Было рот открыла, может, хотела что-то сказать Сане, может, хотела заплакать… Не сделала ни того, ни другого. Только быстро-быстро замигала ресничками.
— Небось теперь поверила… — прошипела Фекла. — А то пожалела — «бедная, бедная».
— Думаешь, что мелешь, дуреха? — крикнула Санька и как шальная выскочила из кухни на крыльцо, а там — во двор, а там — бегом-бегом подальше от белого флигелька. В мыслях же одно: что дедушке Акимычу сказать? Как передать ему, что видела, что слышала?
Возвращалась обратно на Арбатскую площадь самой длинной дорогой. Шла медленно, как могла. На сердце лежал камень. И так было тяжко, так горько…
Сама не заметила, как вышла на Тверской бульвар. Ровно год назад была здесь на этом месте. Дивилась тогда на важных господ и любовалась нарядными барынями. И те и другие без дела ходили взад-вперед по дорожкам.