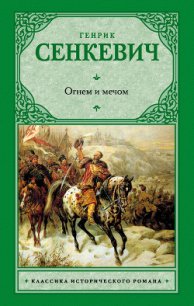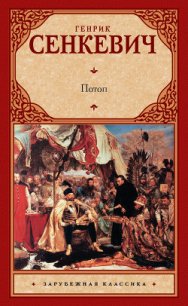Огнем и мечом. Часть 2 - Сенкевич Генрик (первая книга .TXT) 📗
Атаман умолк, голос его пресекся, и только стон вырвался из груди, а Еленино лицо то заливалось краскою, то бледнело. Чем больше безмерной любви слышалось княжне в словах Богуна, тем шире разверзалась перед нею пропасть — без дна, без надежды на избавление.
А казак, переведя дух, овладел собою и так продолжал:
— Проси, чего пожелаешь. Вон, гляди, как горница убрана, — все мое! Это добыча из Бара, на шести лошадях для тебя привез — проси, чего хочешь: злата желтого, дорогих нарядов, камней чистой воды, слуг покорных. Богат я, своего хватает, да и Кривонос не пожалеет добра, и Хмельницкий не поскупится, будешь не хуже княгини Вишневецкой. Замков, сколько захочешь, возьму, положу к ногам пол-Украины — хоть и казак я, не шляхтич, а как-никак атаман бунчужный, у меня десять тысяч молодцев под началом, поболе, чем под князем Яремой. Проси, чего угодно, только не убегай, только захоти быть со мною и полюбить меня, моя голубка!
Княжна приподнялась на подушках, бледней полотна, но нежное, чудное ее лицо такую несокрушимую выражало волю, такую гордость и силу, что голубка в ту минуту более походила на орлицу.
— Коли ты, сударь, ответа от меня ждешь, — промолвила она, — знай: хоть бы мне век пришлось лить слезы в твоей неволе, я никогда, никогда тебя не полюблю, и да поможет мне всевышний!
Богун несколько времени боролся с собою.
— Ты мне таких слов не говори! — хриплым голосом произнес он.
— Это ты мне не говори о своей любви — стыд меня берет, гнев и обида. Не про тебя я!
Атаман встал.
— А про кого же, княжна Курцевич? Кабы не я, чья б ты была в Баре?
— Кто мою жизнь спас, чтобы потом опозорить да свободы лишить, тот не друг мне, а враг лютый.
— А если бы тебя мужики убили? Подумать страшно!
— Нож бы меня убил, это ты его у меня вырвал!
— И ни за что не отдам! Ты должна быть моею, — пылко вскричал казак.
— Никогда! Лучше смерть.
— Должна быть и будешь.
— Никогда.
— Эх, кабы не твоя рана, после слов таких я б сегодня же послал молодцев в Рашков и монаха велел силой пригнать, а к завтрему был бы твоим мужем. Тай что? Мужа грех не любить, не голубить! Эко, вельможная панна, для тебя казацкая любовь — стыд и обида! А кто ты такая, чтобы меня считать холопом? Где твои замки, войска, бояре? Почему стыд? Отчего обида? Я тебя на войне взял, ты полонянка. Ой, был бы я простой мужлан, нагайкой бы тебя по белой спине уму-разуму поучил и без ксендза красой твоей насладился — если б мужик был, не рыцарь!
— Ангелы небесные, спасите! — прошептала княжна.
Меж тем ярость все явственнее обозначалась на лице атамана — гнев его рвался наружу.
— Знаю я, — продолжал он, — почему ты противишься мне, почему моя любовь тебе обидна! Для другого свою девичью честь бережешь — но не бывать тому, не будь я казак, клянусь жизнью! Голь перекатная шляхтич твой! Пустобрех! Лях лукавый! Пропади он пропадом! Едва глянул, едва покружил в танце, и уже она, вся как есть, его, а ты, казак, терпи, колотись лбом об стенку! Ничего, я до него доберусь — шкуру прикажу содрать да распялить. Знай же: Хмельницкий войною идет на ляхов, а я с ним — и голубка твоего разыщу хоть под землею, а ворочусь, вражью его голову под ноги тебе кину.
Елена не услышала последних слов атамана. Боль, гнев, раны, волнение, страх лишили ее сил — ужасная слабость разлилась по телу, свет в глазах померк, сознание помутилось, и она упала без чувств на подушки.
Атаман все стоял, белый от ярости, с пеною на губах; вдруг он заметил эту неживую, бессильно запрокинутую голову, и из уст его вырвался рык почти нечеловеческий:
— Вже по не…! Горпына! Горпына! Горпына!
И Богун грянулся оземь.
Исполинка опрометью влетела в горницу.
— Що з тобою?
— Спаси! Помоги! — кричал Богун. — Убил я ее, душеньку мою, свiтло мо†!
— Що ти, здурiв?
— Убил, убил! — стонал атаман, ломая над головой руки.
Но Горпына, подойдя к княжне, вмиг поняла, что не смерть это, а лишь глубокий обморок, и, вытолкав Богуна за дверь, начала приводить девушку в чувство.
Минуту спустя княжна открыла глаза.
— Ну, доню, ничего тебе не сталось, — приговаривала колдунья. — Видать, напугалась его и свет в очах помрачился, но помраченье пройдет, а здоровье вернется. Ты ж у нас как орех девка, тебе еще жить да жить, не ведая горя.
— Ты кто такая? — слабым голосом спросила Елена.
— Я? Слуга твоя — как атаман повелел.
— Где я?
— В Чертовом яре. Пустыня глухая окрест, никого, кроме его, не увидишь.
— А ты тоже живешь здесь?
— Это наш хутор. Донцы мы, мой брат полковничает у Богуна, добрыми молодцами верховодит, а мое место тут — теперь вот тебя караулить буду в золоченом твоем покое. Замест хаты терем! Глазам смотреть больно… Это он для тебя постарался.
Елена глянула на пригожее лицо девки, и показалось ей оно прямодушным.
— А будешь ко мне добра?
Белые зубы молодой ведьмы сверкнули в усмешке.
— Буду. Отчего не быть! — сказала она. — Но и ты будь добра к атаману. Эвон какой молодец, сокол ясный! Да он тебе…
Тут ведьма, наклонившись к Елене, принялась ей что-то нашептывать на ухо, а под конец разразилась громким смехом.
— Вон! — крикнула княжна.
Глава III
Утром по прошествии двух дней Горпына с Богуном сидели под вербой возле мельничного колеса и смотрели на вспененную воду.
— Гляди за ней, стереги, глаз не спускай, чтоб из яру ни ногой, — говорил Богун.
— В яру возле речки горловина узкая, а здесь места хватит. Вели горловину камнями засыпать, и будем мы как на дне горшка, а я для себя, коли понадобится, найду выход.
— Чем же вы здесь кормитесь?
— Черемис меж валунов кукурузу садит, виноград растит, птиц в силки ловит. И привез ты немало, ни в чем твоя пташка нужды знать не будет, разве что птичьего молока захочет. Не бойся, не выйдет она из яра, и никто о ней не прознает, лишь бы молодцы твои не проболтались.
— Я им поклясться приказал. Ребята верные: хоть ремни из спины крои, слова не скажут. Но ты ж сама говорила, к тебе люди за ворожбою приходят.
— Из Рашкова, часом, приходят, а иной раз кто прослышит, то и бог весть откуда. Но дальше реки не идут, в яр никто не суется, страшно. Ты видел кости. Были такие, что попробовали, — ихние это косточки лежат.
— Твоих рук дело?
— А тебе не один черт?! Кому поворожить, тот на краю ждет, а я к колесу. Чего увижу в воде, с тем приду и рассказываю. Сейчас и тебе погляжу, да не знаю, покажется ли что, не всякий раз видно.
— Лишь бы худого не углядела.
— Выйдет худое, не поедешь. И без того лучше б не ехал.
— Не могу. Хмельницкий в Бар письмо писал, чтобы я возвращался, да и Кривонос велел. Ляхи против нас идут с пребольшою силой, стало быть, и нам надо держаться вместе.
— А когда воротишься?
— Не знаю. Великая будет битва, какой еще не бывало. Либо нам карачун, либо ляхам. Побьют они нас, схоронюсь здесь, а мы их — вернусь за своей зозулей и повезу в Киев.
— А коли погибнешь?
— На то ты и ворожиха, чтобы мне наперед знать.
— А коли погибнешь?
— Раз мати родила!
— Ба! А что мне тогда с девкою делать? Шею ей свернуть, что ли?
— Только тронь — к волам прикажу привязать да на кол.
Атаман угрюмо задумался.
— Ежели я погибну, скажи ей, чтоб меня простила.
— Эх, невдячна твоя полячка: за такую любовь и не любит. Я б на ее месте кобениться не стала, ха!
Говоря так, Горпына дважды ткнула атамана кулаком в бок и ощерила в усмешке зубы.
— Поди к черту! — отмахнулся казак.
— Ну, ну! Знаю, не про меня ты.
Богун засмотрелся на клокочущую под колесом воду, будто сам хотел прочитать свою судьбу в пене.
— Горпына! — сказал он немного погодя.
— Чего?
— Станет она обо мне тужить, как я поеду?
— Коль не хочешь по-казацки ее приневолить, может, оно и лучше, что поедешь.