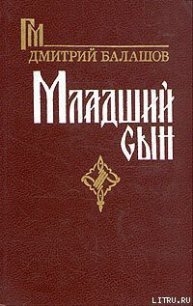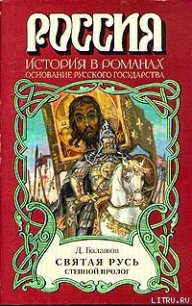Марфа-посадница - Балашов Дмитрий Михайлович (книги бесплатно читать без .TXT) 📗
— Эх, девка, малина-ягода! Валяй, не жалей! — прокричал кудрявый и еще оглянулся, ловя девичье смущение и свирепый взгляд шеголя. Боярчонок, видать по всему! Беда девкам. От одних сапогов голова кругом пойдет!
Козьма тоже поглядел скоса, сдвинул сухим кадыком, сглатывая набежавшую слюну, и сник, свесил голову. Разом расхотелось спорить.
Вспомнил пустую хоромину свою… Прошла молодость, прокатилась, не воротишь!
Пройдя еще немного, он вдруг резко остоялся, махнув рукой:
— Ну, прощевайте, мужики, мне на Славну!
— Дак… Чего ты? Идем! Нюра не зазрит, поснидашь с нами?! — дивясь, оборотился Иван.
— Ни. Дело есть!
И, утупив очи в землю и не оборачиваясь более, Козьма быстро зашагал прочь.
Потанька-балагур аж присвистнул:
— Ай, девка обожгла правдолюбца нашего?! Старый конь…
— Оставь!
— Да я ништо… А лют! Как он мниха-то!
— Кто, Козьма? Он лют! Да и учен, не чета нам!
— А монах свое дело знат, вишь, на морских островах вселилсе. Поди, его и Марфа не выгонит!
— На Студеном мори?
— Ну! От Сороки туда добираютце. Стужа велика! А богато: кто ни был, все с прибытком оттоль.
— Гибнут тамо! — усомнился Иван.
— А как же! — радостно подтвердил балагур. — Марфа, слышь, в очередную народ набират, ты к Прохору подкатись, хошь я, поставим ему пенного, пущай посылает в Заволоцкую землю?!
— Боязно, да и как Нюра… Дом кидать…
— Мотри! Век за жонкиным подолом не просидишь. А то по осеням, как воротятце неревские мореходцы, сходим к ним, потолкуем, а? Слыхал, немцы нашего убили, у немецкого двора, лодейника с Торговой? Двор зорить уж хотели, дак все бояра за него горой! Торг, вишь, пострадает! А мы для их… Скучливо чегой-то становитце в Новом Городи! Ну, прощевай, покуда, гости!
— И ты тож!
Балагур, насвистывая, свернул на Легощу, а Иван все шел да шел, не глядя ни на людей, ни на пышные боярские терема Прусской улицы, ни на белокаменную красоту Детинца, и думал. И думы его были все невеселые.
«Придет ведь, опеть придет! — бормотал он сокрушенно, представляя веселую сытую рожу Наума Трифоныча, купца, которому задолжал по закладной.
— Придет… И с долгом не торопит, паскуда, хочет терем откупить! А тогда куда ж? За город выбиратьце, в Юрьевские слободы, али в Лукинское ополье?
А как отдать прадедний дом! Подумать, и то немыслимо! Анна дак с кажного его приходу — в рев. А не отдать… Оба бьютце, что куропти в сильях: лишь петля на шее тужее день ото дня. Все даром! От зари до вечера только и заработаешь себе на хлеб! Верно, что хошь к Студеному морю подаватьце…»
Вечерело.
Часы на Евфимьевской часозвоне мелодично и громко начали бить, указуя скончание дню. Зачалось перезвоном маленьких колоколов, в которые влился, отделяясь, тяжелый удар, и поплыл над Волховом; за ним, подождав, когда звук уйдет, второй, третий… Мужики, что задержались у пристани, примолкли, слушая.
Монах поднял суровое лицо, с невольным завистливым восхищением вбирая в себя похорошевший, украшенный новыми храмами Новгород, белокаменный и богатый. Берег уже весь оделся тенью, лишь по-прежнему ясно горели золоченые маковицы на кровле высокого терема Марфы Борецкой, куда его давеча не пустили холопы… Один из которых, впрочем, теперь мялся и скреб в затылке, всем видом изображая, что-де он бы и рад, да воля не своя! А другой, с простодушным удивлением глядя на чудного монаха, косноязычно бормотал: «Цтой-то тамо, на Белом мори…» — хотя и не решаясь еще о чем-то выспросить.
Но вот, благословясь у Зосимы, разошлись и Марфины люди. Холопья, о чем-то тихо споря вполголоса, тоже убрели в гору.
Небо меркло. Скоро на ясной, выцветающей голубизне смутно замерцают звезды, и вохряная полоса заката похолодеет. Над рекою уже струился туман.
От пристани отчалила лодья с последними людьми. Замерли удалявшийся плеск весел и бульканье воды, обегающей смоленые борта елы. Наступила тишина. На белом, тронутом желтизной, дымящемся зеркале Волхова ясно чернела одна только остороконечная скуфья монаха.
Со страхом и уважением (ему еще не доводилось слышать, чтобы наставник так много и так красно говорил при нем) отрок Данило, кашлянув, напомнил о себе:
— Отче, пора нам!
Сторож уже затворял скрипучие ворота невысокой приречной городской стены, что весь день стояли распахнутые настежь.
Зосима, очнувшись от дум, согласно кивнул. Сдвинули лодку.
Солнце уже скрылось за кровлями и вереницею куполов Зверинца и посылало сквозь них прощальные гаснущие лучи на Торговую сторону, выхватывая то два-три слюдяных оконца на вышке терема, то купол и белую стену храма, меж тем как церкви и монастыри Неревского ополья, от Петра и Павла в Кожевниках и до Зверина монастыря, начинали сливаться в вечерней мгле. Четко вырезывался на закатной желтизне стройный очерк маленького Симеона Богоприимца, последнего творения архиепископа Ионы, поставленного им три года назад ради утишения гибельной моровой болезни.
С середины реки город казался еще необъятнее. Амбары и пристани, ряды бочек и горы леса тянулись по неревскому берегу аж до Хутыня, а на Торговой стороне уходили далеко за Онтонов монастырь. И не чаялось конца теремам, храмам, кровлям, перемежающимся огородами и садами, отходящего ко сну огромного города, яко древлий Вавилон не вмещающегося в пределах своих.
Так пышно цветет раннею осенью раскидистая роща, выметав и раскрыв в полный рост уже все ветви и все листья свои, и кажется она еще более прекрасной и гордой от золота, багреца и черлени, — первых смертных печатей увядания.
— Богато у них тут!
Данило повернул к наставнику оживленное порозовевшее лицо. С удовольствием, сильно и ловко загребая веслом, он гнал лодку наискосок и вниз по течению, к неярко белеющему на той стороне Онтонову монастырю, где соловецкий угодник со спутниками получили пристанище.
Зосиму больно резануло, что парень отгадал его тайную зависть, а тот простодушно пояснил:
— Глень! Лесу-то сколь!
У Зосимы отлегло было, но тут Данило, того не заметив, тронул его, с тем же искренним простодушием, за самое больное:
— И монастырь богат! Не то, цто мы! Трои черквы камяны, и запасу, поцитай, на три годы. Тута бы жить! Уж толь красиво!
С новою обидой Зосима припомнил гордого ключника в дорогом зипуне, и седатого философа, чуть было не переспорившего его у перевоза, цветные стекла недоступного терема, амбары с солью, рваных мужиков на берегу и, разомкнув уста, прошептал:
— Глубоко вкоренилсе грех во граде сем!
Глава 2
«Да не застанет вас солнце на постели!» — писал когда-то, поучая детей, великий князь киевский Владимир Мономах.
Раньше всех подымаются хозяйки. Затемно топят печь, растолкав взрослую дочь: «Только по беседам и шастать, воды наноси!», задают корм скотине, доят коров. Прилежный мужик тоже не проспит зорю. Плеснув холодной воды на засмяглое со сна лицо и крепко утершись посконным рушником, с еще влажной бородой, перекрестясь на икону, берется за топор ли, сапожный нож, косу или тупицу, кузнечное изымало, клещи, пробойник, долото или ножницы — каждый по своему ремеслу. Повозник еще затемно уздает лошадь, заводит, храпящую, в оглобли, оглядывая светлеющее небо и настороженным ухом ловя скрип соседских колес: не выехать бы последи всех!
Купец в сумерках уже у товара. Кто помельче, поспешает к торгу, неся всю свою кладь, пуда два, а то и три, на плечах, покряхтывая от натуги; побогаче
— отпирает лавку, строжит приказчиков: «Зорю проспишь — и прибыль проспишь!» Такие, как Иван, затемно тянутся к вымолам, разгружать смоленые бокастые лодьи с товаром… И где там, рай земной! Только поглядеть на диковины заморские, что привозят и увозят богатые гости.
Не заспят и в терему боярском. Из утра надо нарядить слуг по работам, принять и отправить обозы, проверить коней. Князь Мономах своего скакуна и чистил сам, не доверяя паробкам княжьим. Но всех раньше, быть может, встают монахи. В темноте ночной, еще чуть светлеющей бледно по краю неба, движутся смутною вереницей к церкви, на молитву, и стыд тому из них, кто проспит утреню. Рано встают на Руси!