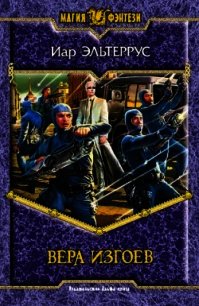Золото мое (СИ) - Дубинин Антон (читать книги без регистрации полные .txt) 📗
«Соврал франк. Я ли не знаю, как разнятся франки вроде тебя, здешней породы, и те, что только прибыли из-за моря, порази их Аллах! Вторые во много раз хуже, это подмечал еще великий Усама [4], могший стать куда более великим, не будь он еретиком. Соврал франк, он такой же родич тебе, как собаки аш-шиа родня Пророку, но, да поправит Аллах наши дела, я на этом деле смогу выгадать вдвое больше…»
Гийом и сам не знал, почему же Алендрок все-таки его выкупил. Но случилось, как случилось, и в день Пятидесятницы (чудо из артуровских легенд) он уже ревел, царапая землю, перед белым крестом на передвижной часовенке, а тем же воскресным вечером, слабый и почти больной после первой за год настоящей мессы, немедля согласился на Алендроково предложение.
— Ты, парень, можешь идти к своей родне. Ну, к провансальцам. Долг только верните. Или оставайся моим оруженосцем, отработай. А то…
— О… да, мессир.
— …А то моего прежнего лихорадка съела. Которая швабского герцога тут прибрала. Ну, он пулен был, оруженосец-то, пулены все хилые. А ты вроде тоже пулен?..
2. Об искушениях и бедствиях, приключившихся нашему экюйе в тяжкое испытание
«Гилельм сполоснул лицо водой и отбросил назад разогретые солнцем волосы. Он никогда, несмотря на высокое рыцарские звание, не пренебрегал простой работой, потому что не хотел держать при себе никого, ни оруженосца, ни слуги, после смерти верного Лоньоля… (про верного Лоньоля тоже очень печальная история, надо бы ее потом подробнее осознать.) Теперь, оправившись после схватки, он намеревался отдать должное своему верному боевому коню, как и подобает доброму хозяину…»
Верный боевой конь по имени Босан [5] (пестрый был, черный с белым пятном на лбу да в белых «сапожках» — а про Гийома Оранжского Алендрок никогда не читал) и в самом деле ждал, когда ему отдадут должное. Алендрок со дня на день собирался купить на королевские денежки парадную лошадь, чтобы ездить с посольствами или просто по лагерю — а то с прибытием двух королей из-за моря, Ришара Английского и Филиппа Французского, крестоносный лагерь еще более разросся, вытянулся вдоль по холмам. Пока же ему приходилось использовать для этой нетрудной, но унизительной для работы прекрасного Босана, и чувствовал себя при этом Алендрок неловко, как будто заставлял рыцаря носить бревна. Хотя с прибытием Ришара Львиное Сердце все изменилось — сам король таскал на плечах огромные стволы для новых осадных машин, а до того самолично ходил с дровосеками, помечал приготовленные на заклание деревья. Так что и Босан мог потерпеть такое некуртуазное обращение со своей особой. Дестриер [6].
Кони бывают разные. Вот Линьор, конь дяди Жофруа, был добрый. Он и к чистившим и обихаживавшим его мальчишкам относился со снисходительной лаской, как к существам юным и неразумным; у него были на то причины — испытанный воин так взирает на новобранцев. Он позволял подстригать себе копыта, хотя зверски боялся щекотки и слегка дергал ногой — но никогда не в попытке лягнуть, а только так, на себя, как любой, кому неприятно. Он позволял чистить себе до крайности чувствительное брюхо, только слегка перебирая ногами. Он никогда не обижал Гийома — даже когда его в глаза кусали мухи, или когда мимо проводили роскошную кобылу, или когда… В общем, он был из тех волшебных коней, описанных в окситанских байках: коней, которые дают хозяину советы в суде, плачут о его отсутствии и умеют на самом деле говорить человеческим голосом. Другое дело — Босан. Эта огромная черная тварь если бы и умела говорить, никогда бы не снизошла до такого парнишки, как Гийом; оруженосца своего господина (которого он, скорее всего, считал собратом по оружию, а не сиром) Босан открыто презирал. Гийом боялся его, злого здоровилу с грудью шириной как замковые ворота, и конь это отлично чувствовал. Вот и теперь, когда Блан-Каваэр робко приблизился к нему с ведром воды в одной руке и с щеткой для мытья — в другой, тот только снисходительно фыркнул, и — так уж и быть — слегка развернулся к пришедшему.
Босан, еще не расседланный, стоял под навесом, такой бесстенной летней конюшней, наспех сооруженной из жердин и крытой вместо досок шкурами. Вечернее солнце настолько спустилось, что жарило алым светом прямо в глаза юноше и в лоснящийся от пота конский бок. Огромная туша (у, скотина жирная… Жрет, как слон… Эта поговорка — «Прожорливый, как слон» — осталась у Гийом после сарацинского плена), то есть могучее тело коня пахло влагой усталости. Как всегда робко Гийом приблизился, стараясь выглядеть как можно независимей, и снял с коня подпруги, седло и удила, вдыхая плотный дух нагретой Босановой шкуры. Почтение к этому коню порой напоминало юноше его робость перед Алендроком.
— Ну, ты, развернись, — пробормотал он, как всегда сдержавшись, чтобы не прибавить «пожалуйста, мессен». Окунул щетку в ведро и принялся тереть потную шкуру; вода заструилась и закапала по Босановым гладким бокам. В такую жару бы его в реке помыть — Мартин Кипящий скоро, тут кожа и у людей-то сама собой, без всякого огня кипит; ну да ничего. Обойдется пока без принятия ванны. Мытье коня похоже на помощь сарацинскому хозяину при ритуальном омовении, подумал Гийом, и ему стало слегка противно.
«Гилельм почистил коня, и, улыбаясь, посмотрел на закатное солнце. Огненно-золотой лик его напомнил рыцарю цвет волос его Донны, и Гилельм, опустившись на колена, вознес благодарственную молитву за то, что госпожа королева рождена на Божий свет…»
Привычка думать о себе в третьем лице, укоренившаяся очень давно, когда-то в детстве. Думать о себе как о герое некоего романа, длинной жесты, почти самостоятельно слагавшейся у Гийома в голове…
А верхняя губа все еще болела, распухшая от сегодняшнего Алендрокова удара. Особенно неудобно оказалось есть — внутри рта все было разбито, и ранки немилосердно жгло от соприкосновения с пищей. Гийом, на миг отрываясь от чистки конского левого бока, пощупал лицо — ну да, губа вдвое больше, чем надо, нос тоже, кажется, слегка разнесло, и к левой щеке больно прикасаться… Ничего, пара дней — и будешь как новенький. Блан-Каваэр, сведя аквитанские золотисто-коричневые брови, собрался было обойти коня (поднырнуть у него под брюхом, как это было бы с Линьором, он не решался), но тут увидел…
Самое ужасное зрелище на свете. О Боже мой, о святой Стефан и святой Мартин, сохраните меня. Пусть это окажется неправдой.
Гийом так горячо взмолился, что даже зажмурился на миг — вдруг святые услышат, и это пропадет. Но сердце его, раз упав куда-то вниз живота, возвращаться на место не собиралось. Медленно-медленно, покрываясь изнутри инеем страха, Гийом открыл глаза (святой Стефан, укрывший своим плащом бедную женщину, святой Петр, воскресивший Тавифу, что же вы, что же вы, ну Тавифа, ну, пожалуйста, Тавифа куми…)
Но увы, увы, умерла так умерла.
Босан, удивительно злорадно — или так показалось Гийому — косясь глазом с красноватым белком, подымал толстую горбоносую морду от опустошенного огромного ведра, и на черных лохматых губах блестели зависшие капли.
Будь проклята эта идиотская история, этот дурацкий Каваэр, не давший Гийому услышать ничего — ни позвякивания крутящегося ведра, ни толстых глотков, проходящих по конскому горлу… И недоуздок, Гийом, ты дубина, почему ты не надел на него недоуздок, почему ты позволил ему развернуться головой к воде, почему…
— Боса-ан… — с тихим отчаянием протянул юноша, едва не плача и почти веря, что конь ему ответит — утробным таким, насмешливым голосом. — Тупая ты тва-арь… Что же ты наделал?..
Конь, который явно не удоволился и выпил бы, пожалуй, еще ведра четыре водички, словно в насмешку наклонил огромную пеструю голову, ткнулся в ведро, мотнул мордой. Посудина упала и откатилась в сторону, а злой дестриер еще и ногой топнул, силясь в нее попасть, но, к счастью, промахнулся.