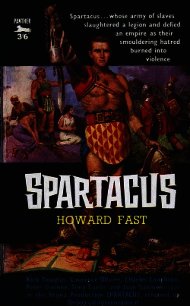Подвиг Сакко и Ванцетти - Фаст Говард Мелвин "Э.В.Каннингем" (читать книги TXT) 📗
Подумав об этом, начальник сразу почувствовал себя гораздо лучше, и чем дольше он убеждал себя в том, что казнь непременно будет отложена, тем больше ему казалось, что так действительно и будет. Настроение его исправилось, он повеселел, заулыбался и объявил жене, что, по его мнению, казнь будет непременно отложена.
Начальник тюрьмы принадлежал к той породе людей, которые не позволяют себе волноваться, потому что жизнь не дает им поводов для приятного волнения и редко сулит им радости впереди. Жена его была удивлена, заметив его возбуждение и услышав, с какой уверенностью он утверждает, что казнь непременно будет отложена.
— Но зачем же ее снова откладывать? — простодушно спросила она.
Он проглотил ответ, который напрашивался сам собой. Ему хотелось сказать: «Казнь будет отложена потому, что всякому, знакомому с этим делом, ясно, что двое итальянцев ни в чем не виноваты». Но он не рискнул сказать это даже своей жене.
Он счел, что подобное замечание слишком бы его обязывало. Ведь он постоянно твердил, что вина или невиновность заключенного вовсе не касаются начальника тюрьмы; поэтому он беспристрастно изложил своей жене кое-какие подробности дела Сакко и Ванцетти, напомнив ей, что имеются некоторые основания сомневаться в виновности итальянцев.
— Но как можно все это пережить? — удивилась жена. — Ведь процесс длится семь лет. И все время — казнь и отсрочка, казнь и отсрочка. По-моему, куда легче было бы положить всему этому конец. Я лично не могла бы этого вынести.
— Покуда человек жив, он надеется.
— Не понимаю, — сказала жена. — Ведь все так хорошо отзываются об этих людях!
— Очень симпатичные люди. Такие не часто встречаются. Да, непонятно. Подумать только — такие милые, добрые люди! Тихие, вежливые. Ни разу не слышал от них грубого слова. И на меня не в претензии. Я даже спрашивал Ванцетти, не сердится ли он на меня. Он говорит, что я тут ни при чем и что злость не по адресу неразумна.
— Очень странно все это, — заметила жена.
— Почему же странно? Все это довольно обычно… Однако очень милые люди…
— А говорят, что анархисты…
— Что мы в сущности знаем об этих самых анархистах? — перебил ее начальник. — При чем тут анархисты? Понятия не имею о всяких там анархистах, коммунистах, социалистах… Может быть, Сакко и Ванцетти и то, и другое, и третье. Может, они исчадие ада. Я только говорю, что по ним это не заметно. Когда с ними разговариваешь, кажется, что такие люди ни при каких обстоятельствах не могут совершить убийства. Во всяком случае, такого убийства, в каком их обвиняют. Подобные преступления совершают только бандиты. Те могут хладнокровно пристрелить человека, как собаку. А эти двое — совсем не такие. Не знаю, как тебе объяснить, но они оба очень душевно относятся к жизни вообще. Они не могли бы вот так просто убить. Имей в виду, это строго между нами, я не хочу, чтобы мои слова были взяты на заметку. Но я-то уж знаю, что такое убийца, поверь мне!
— Ну, положим, убийцы бывают разные, — возразила жена.
— Ну, вот видишь, и ты туда же. Да я тебя и не виню. Все вы так. Удивляетесь: как же их могли осудить, если они не виноваты? Ведь именно это удивляет тебя, правда?
— Возможно, — призналась жена.
— Утром я зашел к Ванцетти, а он сидит тихо и мирно, как ни в чем не бывало…
Разговор их прервал надзиратель, который сообщил начальнику тюрьмы, что у Мадейроса истерика, и спросил, не разрешит ли начальник впрыснуть ему немного морфия. Начальник извинился перед женой, торопливо вытер рот салфеткой и пошел следом за надзирателем. По пути они зашли в тюремную больницу, прихватили врача и втроем направились к камере Мадейроса. Еще издали они услышали вопли, которые по мере приближения к камере становились все громче и пронзительнее.
Камера Мадейроса находилась совсем рядом с камерами Сакко и Ванцетти. Начальнику пришлось пройти мимо них, но на этот раз он даже не заглянул к ним в окошечко.
А Мадейрос лежал на полу; тело его корчилось и извивалось в конвульсиях. В его деле было записано, что он страдает эпилепсией, и в тюрьме у него был уже не один припадок. Начальник попытался заговорить с ним, но тот ничего не слышал; он кричал и колотил руками по каменному полу. Изо рта у него текла слюна, смешанная с кровью; его вид и пронзительные вопли вконец расстроили начальника.
— Тише, тише, — приговаривал он, — все уладится, мы ведь здесь, с тобой, успокойся же, все будет в порядке. К чему себя так изводить?
— С ним бесполезно разговаривать, — сказал врач. — Самое лучшее — это впрыснуть ему морфий. Вы разрешаете?
— Хорошо, колите, — сказал начальник. — Чего же вы ждете? Колите!
Они с надзирателем держали Мадейроса, пока врач впрыскивал ему морфий. Через несколько минут Мадейрос успокоился, сведенные судорогой мускулы расправились, и крики перешли во всхлипывание.
Начальник вышел из камеры. Его тошнило. Уверенность в том, что казнь сегодня снова будет отложена, почему-то улетучилась; наоборот, теперь он был совершенно уверен в том, что сегодня все будет кончено. Значит, тягостный день только начинался. Было всего лишь восемь часов утра. Не дай бог, чтобы весь день прошел таким образом. Право, он этого не вынесет!
Глава третья
Просто удивительно, какой интерес люди стали вдруг проявлять к Сакко и Ванцетти, — всем вдруг захотелось узнать о них хоть что-нибудь, узнать, кто они и как они выглядят. Но удивительно и то, как мало знали люди о Сакко и Ванцетти прежде, чем им пришло время умереть.
Год тысяча девятьсот двадцать седьмой был странным годом; это был год сенсаций, и заголовки в газетах теснили друг друга, крикливые и неистовые. Это было «самое лучшее из всех возможных времен», и Чарльз А. Линдберг впервые, в одиночку, перелетел через Атлантический океан, дав «Балтимор сан» право воскликнуть: «Он возвысил род человеческий!» Красотка Броунинг и ее стареющий супруг, папаша Броунинг [1], тоже возвысили род человеческий, а потом через океан перелетели Чемберлин и Левин [2], а Джек Демпси побил Шарки, а потом сам был побит Джинни Тэнни [3].
Но Сакко и Ванцетти были не то коммунистами, не то социалистами или анархистами, словом, завзятыми бунтовщиками того или иного толка, и потому многие газеты в стране ни разу не упомянули о них до тех пор, пока им не пришло время умереть. Даже крупные газеты в Бостоне, Нью-Йорке и Филадельфии лишь изредка посвящали процессу строчку-другую. Ведь с тех пор, как началось это дело, прошло столько лет! «В конце концов, — могли бы сказать в свою защиту газеты, — дело Сакко и Ванцетти началось в 1920 году, а теперь идет уже 1927-й».
Близость смерти сделала сапожника и разносчика рыбы красноречивыми; даже молчание их было красноречиво. И с самого утра, с самого раннего утра 22 августа, в воздухе чудились звуки, запахи, дыхание смерти. И не странно ли, что в мире, где сотни и тысячи людей умирают невоспетыми и неоплаканными, смерть двух агитаторов вызвала такое волнение и превратилась в событие такой огромной важности? Но, как ни странно, дело обстояло именно так, и с этим приходилось считаться.
Все газеты знали, с какими заголовками они выйдут на следующее утро, но одних заголовков им было мало. Вот почему в это утро репортер пошел туда, где жила семья Сакко: жена и двое его детей. Репортеру сказали, что многие интересуются Ванцетти, но куда больше интересовал людей Николо Сакко. Дело Николо Сакко давало возможность покопаться в его личной жизни, и только дурак мог бы это упустить. Вот вам Сакко, ему всего тридцать шесть лет, а он уже стоит на краю великой зияющей бездны — один из немногих, кому выпало на долю знать точный час своего ухода в потусторонний мир. Репортеру сказали, что, по представлениям миллионов простых людей его страны, Николо Сакко, умирая, оставлял бесценные сокровища, ибо он был человек семейный.