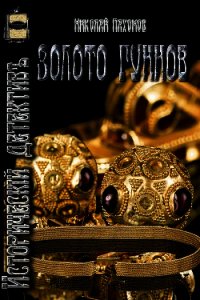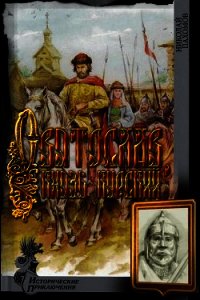Первый генералиссимус России (СИ) - Пахомов Николай Анатольевич (бесплатные онлайн книги читаем полные версии txt) 📗
«По этому поводу патриарху Иосифу в 1636 году по Рождеству Христову пришлось даже отдельное церковное распоряжение для курчан слать, чтобы унять язычество, — со смешливыми искорками в блеклых очах рассказывал дьячок. И цитировал по памяти: «На распутьях сатанинские игры не творити, в бубны не играти, в сурны не ревети, руками не плескати…»
Он же рассказал и о том, как в 1648 году, сразу же после бунта монастырских крестьян во главе с игуменьей Троицкого девичьего монастыря Феодорой и протопопом Григорием, когда был убит стрелецкий голова Теглев, выборный от детей боярских Гаврила Малышев передал царю Алексею Михайловичу челобитную, чтобы в подготавливаемом Соборном Уложении был запрет на песни и игрища.
«Вот так, — с прежними насмешливыми искорками в уголках глаз ведал о данном факте дьячок, — ни много, ни мало! Закон о запрете — и все! Да, слава Богу, царь-то наш, Алексей Михайлович, царствие ему Небесное, — осенив себя крестным знаменем, продолжал далее, — был просвещен и закон такой в Уложение не внес. Правда, поступило распоряжение от патриарха, чтобы курчане скоморохов с домрами и гуслями, с волынками и всякими иными играми в дом к себе не призывали и медведей не водили. Только этого настырному Малышеву, Гавриле Иванову сыну, показалось мало, и он вновь направляет царю челобитную. Блаженному памятью Алексею Михайловичу деваться некуда, пришлось приказать думным дьякам специально для курчан написать указ, запрещающий игры, песни, хороводы и прочее веселье. Только и смех, и грех с указом этим вышел. Часть курчан на него рукой махнула и как пела песни да игры разные играла, так и продолжила петь и играть. А те, кто вняли ему, перестали в кабаки да шинки хаживать — казне ущерб начался. Снова курчане стали челобитные царю писать, просить отменить указ хотя бы частично. Частично и отменили, а о неотмененной части попросту позабыли. И вновь на старую стежку-дорожку выбрались. В итоге только морока государю да приказным и вышла».
А вообще, как приметил тогда Шеин, с праздничными гуляниями в Курске происходило так же, как и в Москве и в других городах Руси-матушки. Хотя и имелись некоторые незначительные отличия — сказывалась близость со Слободской Украиной и Малороссией. Пришлые черкасы некоторые новшества вносили.
Как ни перенимали себе славу победы над ногайцами Шереметев и Неплюев, но шила в мешке не утаишь. И Софья Алексеевна, и Василий Васильевич Голицын спознали, кто нанес поражение ворогу. Приветную грамотку прислали, золотых рублей подбросили, прочие милости пообещали. Тут бы радоваться да жить припеваючи. Тем паче, что супружница Авдотья Никитишна вот-вот должна была ребеночка, родную кровиночку родить.
Только веселья не случилось.
В срок разродилась Авдотья сыном, которого нарекли Сергеем. Радости Шеина не было конца. Но после родов супруга стала столь часто хворать, что на ноги уже с постели не встала.
«Помру я, Лешенька, — жаловалась сердечная, мигая белесыми ресничками и тускло глядя покрасневшими, слезившимися глазами. — В груди что-то горит, а низ холодеет».
От хворей и частого плача она подурнела личиком, одрябла телом. Смотрелась маленькой, жалкой, беспомощной.
«Ну, что ты, милая, — гладил он ее по головке, едва сдерживая собственные слезы, — Господь не без милости. Еще оправишься, одолеешь хвори, встанешь на ноги. Я игумена попрошу, чтобы братия о твоем здравии помолилась, сам у чудотворной на колени встану».
О, как хотелось верить в то, что говорилось и делалось!
Но ни горячие молитвы самого воеводы, ни богатые дары храмам Знаменского монастыря, ни молитвенные бдения монастырской братии, ни старания бабок-ведуний, пользовавших Авдотью травами, — ничего не помогало. С каждым новым днем все больше и больше угасала Авдотья. И однажды ее не стало. Сгорела свечка Божия. Похоронили в Курске, на кладбище при Никитской церкви. Народу собралось — тысячи. И стрельцы, и казаки, и дети боярские со дворянами, и купцы, и прочие обыватели. Все жалели голубушку. Никому ведь вреда не сделала, никого словом не обидела. А помогала многим… Да и нищих у папертей не обходила стороной, обязательно милостыньку оставит.
Что бы стало с новорожденным сыном, трудно судить, ведь мать его грудью не кормила. Но тут помог случай: у родившей несколькими днями ранее супруги служанки Параски умер младенец. Как поговаривали досужие челядинки, сказались побои и издевательства сгинувшего мужа, стрельца Никишки. «Уж дюже сильно бил он Параску свою».
«Не дай сгинуть невинному младенцу, милая, — просила слеглая Авдотья тоскующую по умершему ребеночку служанку. — Вскорми моего сыночка, Христом Богом прошу — и Господь тебя не оставит».
Чего греха таить, просил и он, воевода. Тут уж не до чванства боярского. Тут и на колени бухнешься, лишь бы спасти дитятко малое, кровиночку родную.
Вняла просьбам Параска, стала кормить младенца. Порой со слезами горечи по утере собственного ребенка грудь давала, порой с тихой улыбкой нежности. Младенец, слава Богу, хорошо сосал. Насосавшись же, крепко спал.
Чтобы загасить горечь утраты, голодным волком накинулся он на работу. День и ночь либо в воеводских палатах, либо на съезжей пропадал. Во все дела старался лично вникнуть, справедливо, без обид разрешить. Видел, что такое его рвение не по нраву приказным. Им бы вздремнуть, но не тут-то было… воевода-то не дремлет. То начерно пиши, то набело готовь. Ворчали меж собой, но исполняли все по мановению очей. Доставалось и служивым: то стрельбы проводили, то смотры, то сопровождали его по городам и весям курской округи. Но после славной победы над ордой у засечной линии, после справедливого раздела трофеев, когда он не взял себе ни крупинки лишку, когда побеспокоился о семьях погибших, служивые не просто подчинялись ему и исполняли службу, но и уважали его. Конечно, воевода может и без уважения служивых жить припеваючи… Но уважение душу греет, в собственных глазах себя самого поднимает. А это для человека умного и совестливого многое значит.
К следующей зиме не только избы московским стрельцам поставили, но и тайный подземный ход к Тускорю подладили, заменив сгнившие плахи свежими. Хоть и откатились степняки за Белгородскую засечную черту, но собственный опыт показал, что могут прорваться и до Курска докатиться. Так что надо быть во всеоружии! Курская крепость должна быть крепкой и мощной, чтобы любой ворог о нее мог зубы обломать. Кроме всего прочего, еще помог людьми и деньгами обновить оснастку в колодце Знаменского монастыря. И монастырю и крепости польза. На случай осады. Глубокий колодец, едва ли не на два десятка саженей вглубь земли прокопан. Вода в нем такая, что зубы сводит.
А тут и грамотка от государыни Софьи Алексеевны приспела — приказывала, не дожидаясь нового воеводы, прибыть в Москву.
Приказ — есть приказ. Его не обсуждают, его исполняют. Текущие дела подбил, дьякам передал на хранение до прибытия нового воеводы. Приказных у себя в воеводских палатах собрал. Поблагодарил, кого полтиной, кого алтыном одарил. Пусть помнят.
Стал вещи укладывать. Вроде и не много брал их с собой, да оказалось и немало. Возка на два набралось.
Параска заволновалась: «С младенцем-то как?»
По всему видать, привыкла к нему, прикипела материнским нутром своим.
«Собирайся, со мной поедешь. Кормилицей будешь Сереже». — «Я-то согласна, — отвечает, — а как быть с избой? Разнесут, растащат, или того хуже — сожгут. А изба-то справная».
Баба — она и есть баба. Не о себе думает, не о муже своем сгинувшем — об избе. Впрочем, изба-то мужнина, не казенная и не ее, вот, может, сама даже не понимая того, и о муже думку имела. Не зря же у курчан присказка бытовала: «Бабий ум — бабье коромысло: и криво, и зарубисто, и на оба конца».
«Постояльцев пусти. Они и за избой присмотрят, и за хозяйством домашним, и кое-какую копеечку тебе справят». — «А как забрать-то копеечку ту?» — «Уж как-нибудь заберем… Воевода с приказными в том, надеюсь, помогут. Чай не последний я человек в государстве-то нашем».