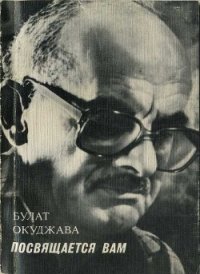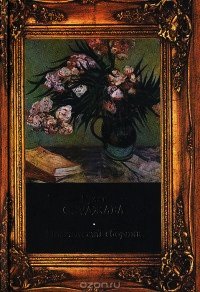Путешествие дилетантов - Окуджава Булат Шалвович (бесплатные серии книг TXT) 📗
– Natalie, вы шутите, я не гожусь для роли, которую вы мне предназначили, – и отхлебнул водки.
Ее караковые застоявшиеся жеребцы подхватили коляску и понеслись, не касаясь земли, вместе со своей хозяйкой, слишком надменной, чтобы позволить себе разрыдаться, и слишком красивой, чтобы поверить, что она может быть нелюбимой или отвергнутой.
«Женщина с тяжелым подбородком не может не быть деспотичной», – записал он в своем дневнике и надумал, не откладывая, отправиться в Москву на прием к знаменитому доктору Моринари с единственной целью успокоить свою совесть, ибо не верил в способность медицины избавить его от печального последствия тяжелой раны, полученной при Валерике.
31
В течение, пожалуй, десяти дней Петербург был спокоен и молчалив. Графиня Румянцева, эта шалунья, не подавала признаков жизни, то ли смирившись с его решительностью, то ли готовя новые козни. Как бы там ни было, Мятлев, посвежевший и помолодевший, наверное, оттого, что появилась хоть какая–то идея, выправил бумаги, велел заложить карету, нетерпеливым жестом указал Афанасию на ее дверцы, уселся сам, и они покатили на юг, к Москве, оставив Северную Пальмиру в гордом одиночестве.
Покуда продолжалось их путешествие, Лавиния, собравшись с духом, писала князю ответное письмо, высунув кончик языка от непривычного усердия. В письме, если отвлечься от приличествующих этому жанру обязательных условностей, были и такие строки:
«…Ваше письмо было подобно бомбе. Несносная Калерия, конечно, пробралась в мою комнату, увидела его, прочитала, побежала к maman. Я требовала, чтобы они отдали мне его, но они и слышать ничего не хотели. «Ах, ах, кто он? Почему? С каких пор?! Ты себя позоришь! Какое легкомыслие! Я буду жаловаться государю!…»
Я ушла к себе и заперлась. Они бушевали за дверью. После всего меня посадили на длинную тяжелую цепь, чтобы я не вздумала жить по–своему.
Пусть Вас это не смущает. Пожалуйста, пишите мне. Пишите на имя моей подруги Екатерины Балашовой в Кривоколенном, в собственном доме.
Теперь забудем о неприятном. Я очень смеялась, когда читала, как Вы усаживались перед зеркалом. Да разве Вы старик? И почему тот, внутри, от Вас отворачивался? Мне Вас стало очень жалко, потому что Вам этот способ не подходит.
Мы пробудем в Москве до рождества. Так говорит maman. У нее тут какие–то дела, в которые она меня не посвящает. Представляете, все лето в жаркой и пыльной Москве из–за чего–то такого, что, наверное, не очень–то и нужно, если не считать вишневого варенья, с которого я снимаю пенки. И все–таки мне сдается, что maman твердо решила устроить мое счастье и за моей спиной об том хлопочет. Мне даже подумать страшно. Конечно, я бессильна спорить с ней, но если это случится, я тут же утоплюсь или приму яд. Впрочем, я ничего этого не сделаю, а попросту убегу из дому с каким–нибудь веселым гусаром.
Вам, наверное, смешно читать мои письма. Наверное, было лучше, когда я была ван Шонховеном. Я бы так хотела явиться к Вам снова в армячке и с мечом и видеть, как Вы недоумеваете. Но что же делать? Возврата нет.
Представляю, когда даст бог свидеться, каким я Вам покажусь страшилищем. Видеть себя не могу! Какой сюрприз было Ваше письмо. Теперь maman все время рассказывает о Вас всякие ужасы.
У нас был доктор, который посоветовал мне купаться и вылеживать на солнце. Мы для того ездили на Фили. Когда ехали через лес, видели волка, такого же тощего, как я. Он убежал.
Все–таки из всех, кого я знаю, Вы самый умный и самый приятный. А уж когда господин Ладимировский встречается, тут даже и сравнивать невозможно. Вот что значит дурное воспитание. Maman утверждает, что у меня тоже дурные склонности, так как я осмелилась с Вами переписываться. Считаете ли Вы, что это дурно? Вам хоть немножечко приятно получать от меня письма?…
Господин ван Шонховен.
P. S. Если случится Вам попасть в Москву и Вы ненароком пройдете мимо нашего дома и услышите из–за ограды лай, не пугайтесь: это я сижу посреди двора на цепи и лаю от тоски и отчаяния».
32
В Москве дышалось легче, чем в Петербурге: дворцовые флюиды достигали Первопрестольной с опозданием и в ослабленном виде, однако и здесь вершился произвол, ибо господин ван Шонховен, старинный друг, сидел на цепи. И хотя Мятлев не успел получить этого отчаянного и смешного письма, но чем ближе экипаж приближался к Москве, тем все отчетливее виделись нехитрые способы, с помощью которых бойкие одиночки должны были утрачивать свою бойкость. Бедная Лавиния!
И он представлял себе нелепый дом господина Ладимировского и грязно–зеленый забор, за которым в пыльном дворе, прямо посередине, закрыв ладонями лицо, рыдает господин ван Шонховен с ошейником на тонкой шейке.
Картина эта не повергла его в ужас, он даже рассмеялся, вступая на Арбат, уже издалека ощущая сильный запах вишневых пенок и слыша, как позвякивает цепь.
В те дни Москва была еще наполовину пустынна, но уже кружилась ранняя осень и первые осторожные караваны, звеня колокольчиками, стекались к столице из ближних и отдаленных поместий. Было самое время жить среди соплеменников, не задевая их локтями, жаловаться богу, не боясь, что тебя освищут, и освобождать посаженных на цепь.
Покуда Афанасий бил мух в гостинице у Охотного ряда, Мятлев торжественно вступал в Староконюшенный переулок, радуясь, что эдакая проказливая фантазия вдруг овладела им в Петербурге и теперь водит, подобно лешему.
О докторе Моринари, который был предуведомлен и ждал его, Мятлев старался не думать, полагая, как уже неоднократно бывало за долгие годы, что болезненный приступ авось больше не повторится, а ежели и повторится, то это все так малообременительно и, в сущности, неопасно, что, право же, нет смысла связывать себя хождением по эскулапам, дурея от карболки, долго и мучительно объяснять свои сомнительные болячки, вместо того чтобы наслаждаться поездкой и представившейся возможностью пофантазерить…
Дом господина Ладимировского возвышался за кокетливой чугунной оградой и вовсе не походил на жалкое строение, созданное лихорадочным воображением князя. Это был просторный двухэтажный дом, построенный со вкусом и любовью, с ложной колоннадой в самых изысканных традициях русского ампира, с колоссальными окнами второго этажа, распахнутыми на солнце, с нарядным подъездом, выходящим в тенистый сад, где знаменитые московские липы росли, окруженные гигантскими кистями душистого табака, а по отличным английским дорожкам прохаживалась молодая особа в розовом платье и такой же шляпе с непомерно широкими полями – розовое облачко в зеленой тени.
Теперь он спросит, кажется, госпожу Тучкову… Кажется, так. И господин ван Шонховен, появляясь в дверях, сделает большие глаза… Молодая особа приблизилась к ограде и сделала большие глаза.
– Это вы? – изумилась она нараспев, и Мятлеву ничего не оставалось, как вбежать в сад.
Какое удивительное зрелище – эта барышня в розовом платье с большими серыми глазами, прижавшая к груди два кулачка, как некогда… Господибожемой!… Уж вы не дочь ли той бедной женщины? Не сестра ли?… Еще не дама, но уже и не господин ван Шонховен. И этот ампир, и ограда, и чистые окна, за которыми покой, и безупречные английские дорожки – уж не обман ли все это? А помните ли вы, как именно вы пожаловали ко мне в несколько потасканном армячке, как я теперь понимаю, с дворового мальчишки? А как мы распивали чаи? А помните ли вы, как вы уходили одна по глубокому снегу, размахивая мечом, и ваши следы ложились ровно, цепочкой, подобно стреле (признак удачливости), да, да… А я вот в свои тридцать три года по–прежнему неудачник и приехал специально затем, чтобы пожаловаться вам, моему старому другу, а кроме того, я предполагал, что возьму вас за руку и мы отправимся, ну, например, в зверинец или на карусели, но вы так повзрослели, что это теперь смешно – брать вас за руку и вести в зверинец. Правда, вы такая худенькая, почти такая же, как вы мне писали, и щечки у вас несколько впали, но московский климат вам, видимо, впору: вон вы как повзрослели, как вы стройны, как многозначительно расположились ваши уже не детские ключицы и в выражении вашего лица появилось нечто такое, что уж вас за руку не возьмешь и на карусели не сводишь, а настоящие молодые люди, я имею в виду настоящих молодых людей, не смогут вас не заметить, и теперь вам предстоят сложные дни… А я по–прежнему в плену обманутых надежд и все почитаю за безделицу, кроме, пожалуй, того, что мне недоступно… А помните? А помните?… Я–то думал, вы посреди печального двора прикованы цепью, а у вас тут английский сад и такая прелесть вокруг, что мне, пожалуй, можно было бы и не спешить…