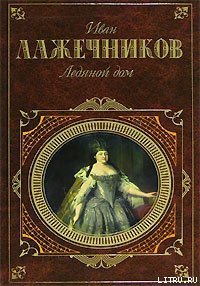Последний Новик - Лажечников Иван Иванович (книги бесплатно без txt) 📗
Филя. «Душа-соловушко». Как не знать ее, ваше благородие. Она в старинные годы была в большой чести. Красная девка шла на нее вереницею, как рыба на окормку. Извольте начинать, а мы подладим вам.
Филя играет на балалайке, Глебовской поет:
Вдруг…
В это время затрубили сбор у ставки фельдмаршальской.
Фон Верден. Тс! слышите, каспада? Трубушка поет нам свою песню.
Несколько голосов (с неудовольствием). Слышим, слышим! Смотри, Глебовской, за тобою долг нам всем-всем! Долг платежом красен.
Все бросились с мест своих: кто за мундир, кто за парик, кто за палаш и так далее. Минуты в три замок опустел, и там, где кипела живая беседа, песни и музыка, стало только слышно шурканье оловянных ложек, которыми, очищая сковороду от остатков жареной почки с луком, работали Филя и широкоплечий, в засаленной рубашке, драгун. Изредка примешивалось к этому шурканью робкое чоканье чар.
Глава четвертая
Совет
Тальбот:
И мой совет: с рассветом переправить
Через реку все воинство и стать
В лицо врагу!
Герцог:
Подумайте.
Лионель:
Но, герцог,
Что думать здесь? минуты драгоценны!
Теперь для нас один удар отважный
Решит навек: бесчестье или честь!
Герцог:
Так решено! и завтра мы сразимся!
В переднем отделении обширной ставки, с полумесяцем наверху, разделенной поперек на две половины, сидел в деревянных складных креслах, какие видим еще ныне в домах наших зажиточных крестьян или в так называемых английских садах, мужчина пожилых лет, высокого роста, сильно сложенный. Он был в лосином поверх мундира колете, расстегнутом от жару нараспашку; на груди висел мальтийский командорский крест. Нижняя одежда его свидетельствовала о наблюдении формы до того, что и широкие раструбы прикреплены были к штиблетам. Каштановые с сединою волосы, причесанные назад, открывали таким образом возвышенное чело, на котором сидела заботливая дума; из-под густого подбородка едва выказывался тончайшего батиста галстух, искусно сложенный; пышные манжеты выглядывали из рукава мундира, покрывая кисть руки почти до половины пальцев. Величавые черты лица, орлиный, хотя несколько пониклый взгляд, важная наружность и движения – все показывало в нем человека, привыкшего повелевать. Облокотясь на стол, подле него стоявший, он был углублен в рассматривание большого листа бумаги, разложенного по столу. В почтительном отдалении стоял молодой офицер в полном мундире со шляпой в руке. Сходство лиц заставляло догадываться о ближайшем их родстве. Взгляды и все движения молодого человека показывали, что сын, воспитанный в патриархальных русских нравах, стоит перед отцом и начальником.
Русское великолепие вместе с азиатским окружало их. Снаружи над ставкою господствовал блестящий полумесяц. Внутри верх и полотно ее были изукрашены разноцветными узорами, звездами, драконами и птицами в каком-то безвкусном смешении. С правой стороны, в углублении переднего отделения, подняты были края двух персидских ковров для входа в маленький покой, обтянутый кругом такими же коврами, в котором свет со мраком спорил. Это была опочивальня. Через отверстие виден был в углу огонек, теплившийся в серебряной лампаде перед иконою Сергия-чудотворца [Образ этот, писанный на гробовой доске преподобного, взят был из Троицкого монастыря и обносим во всех походах шведской войны. См. Историческое Описание Свято-Троицкия Сергиевы Лавры]. К этой иконе прислонен был образ Спасителя, как жар горевший от драгоценных камней, его осыпавших. Это первое и святое богатство русских, залог их здравия и счастья, стояло на столике, накрытом белой камчатной салфеткой. Неверный, едва мерцающий свет от лампады, падая на темный лик святого, исполнял невольным благоговейным трепетом всякого, кто проникал взорами в это упокойце. На краю стола лежала книга в черном кожаном переплете, довольно истертом и закапанном по местам воском: это была псалтырь. В левом углу, на кровати, грубо сколоченной из простого дерева, лежало штофное зеленое одеяло, углами стеганное, из-под которого выбивался клочок сена, как бы для того, чтоб показать богатство и простоту этого ложа. От входа в ставку, по левой стороне главного, переднего отделения, развешаны были на стальных крючках драгоценные кинжалы, мушкеты, карабины, пистолеты и сабли; по правую сторону висели богато убранное турецкое седло с тяжелыми серебряными стременами, такой же конский прибор, барсовый чепрак с двумя половинками медвежьей головы и золотыми лапами и серебряный рог. Перед седлом, отступя от полотна ставки, на стальном кляпышке, обвитом золотой проволокой и прикрепленном к невысокому шесту, сидел сокол, накрытый пунцовым бархатным клобуком; он беспрестанно гремел привешенным к шее бубенчиком, щипля серебряную цепочку, за которую был привязан. Кругом его рассыпаны были перья, остатки от бедной жертвы, еще недавно им растерзанной. Под столом, на богатом персидском ковре, лежала огромная буро-пегая датская собака, положив голову к ногам своего господина.
Сидевший в креслах, услышав стук хвоста ее по земле, сказал, улыбаясь:
– А! верно, кто-нибудь из домашних!
Едва он это выговорил, послышался шорох у входа в ставку, и знакомый нам крошка-генерал, со всею дипломатическою важностью и точностью военной дисциплины, держа щипком левой руки шляпу, а в правой большой сверток бумаг, который, подобно свинцу, тянул ее, мерными шагами приблизился к нему, наклонил почтительно голову и, подавая сверток, произнес:
– Высокоповелительному, высокомощному, господину генерал-фельдмаршалу и кавалеру, боярину Борису Петровичу Шереметеву, честь имеет репортовать всенижайший раб его Якушка, по прозванию Голиаф, что он имел счастье выполнить его приказ, вследствие чего имеет благополучие повергнуть к стопам высоко… вы… высоконожным всепокорнейше представляемые при сем бумаги, которые вышереченному господину фельдмаршалу, и прочее и прочее (имя и звание персоны рек) объясняет лучше…
– Лучше и короче! – прервал карлу фельдмаршал, взял у него сверток, не показывая большого нетерпения, и, прочтя адрес, закричал стоявшему в отдалении молодому офицеру:
– Михайла! попроси ко мне господина генерал-кригскомиссара.
– Слушаю, сударь-батюшка! – отвечал молодой человек и поспешил выполнить данное ему приказание.
По выходе его фельдмаршал встал с кресел, медленно пошел в опочивальню свою, пробыл там недолго и, возвратившись, сел опять на прежнее место.
– Самсоныч! – сказал он ласково, вынув два червонца из небольшого свертка, который он с собою принес, и бросив их в шляпу маленькому посланнику. – Ты привез нам что-то тяжелое, может быть, доброе: спасибо!
– Эк ты мне плюнул в шляпу, Боринька! – вскричал карла, рассматривая подарок. – Годится на подметки! Но смотри, уговор лучше денег: когда ничего доброго не найдешь в этих грамотках, так возьми свое золото назад. Сам батюшка наш, светлые очи, Петр Алексеевич, по приказу божию к прадеду Адаму, в поте лица ест хлеб свой, да и нам велел кушать его не даром. Помнишь – ведь это было при тебе, – когда он выковал на заводе под Калугою восемнадцать пуд железа своими царскими руками, а заводчик-то Миллер хотел подслужиться ему (дескать, он такой же царь, каких видывал я много) и отсчитал ему за работу восемнадцать желтопузиков, что ты пожаловал теперь; что ж наш государь-батюшка! – грозно посмотрел на него и взял только, что ему следовало наравне с другими рабочими, – восемнадцать алтын, да и то на башмаки, которые, видел ты, были у него тогда худеньки, как у меня теперь!