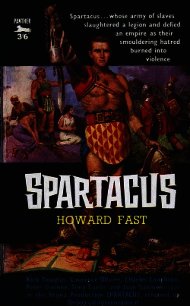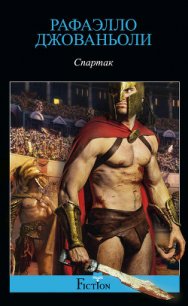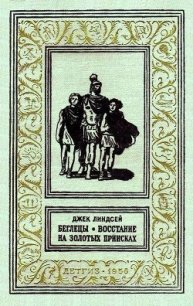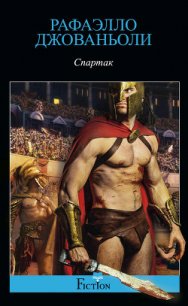Библиотека мировой литературы для детей, том 36 - Джованьоли Рафаэлло (лучшие книги читать онлайн бесплатно .TXT) 📗
Гладиаторы обнялись и несколько раз поцеловались. Спартак заговорил первым:
— Ну, Эномай, рассказывай новости!
— Новости все старые, — ответил гладиатор приятным, звучным голосом. — По-моему, кто не бодрствует, не действует и ничего не хочет делать — негодный лентяй. Спартак, дорогой друг, пора нам взять в руки меч и поднять знамя восстания!
— Замолчи, Эномай! Клянусь богами, покровителями германцев, ты хочешь погубить наше дело!
— Напротив, я хочу, чтобы оно увенчалось великой победой…
— Горячая голова! Разве криками окажешь помощь делу?
— Надо действовать осторожно, благоразумно — только так мы добьемся успеха.
— Добьемся успеха? Но когда же — вот что мне надо знать. Я хочу, чтобы это произошло при моей жизни, на моих глазах.
— Мы поднимемся, когда заговор созреет.
— Созреет? Так, значит, со временем… когда-нибудь… А знаешь, что ускоряет созревание таких плодов, как заговор и планы восстания? Смелость, мужество, дерзость! Довольно медлить! Начнем, а там, вот увидишь, все пойдет само собой!
— Выслушай меня… Наберись терпения, нетерпеливейший из смертных. Сколько человек удалось тебе привлечь за эти три месяца в школе Лентула Батиата?
— Сто тридцать.
— Сто тридцать из десяти тысяч гладиаторов!.. И тебе уже кажется, что плод наших более чем годовых усилий созрел? Или, по крайней мере, семя проросло и пустило буйные ростки, и труды наши не пропали даром?
— Как только вспыхнет восстание, к нему примкнут все гладиаторы!
— Да как же они могут примкнуть к нам, не зная, кто мы, к чему стремимся, какими средствами располагаем для осуществления нашего плана? Победа будет тем вернее, чем глубже будет доверие к нам наших товарищей.
Неистовый Эномай ничего не ответил, он обдумывал эти слова. Спартак добавил:
— Например, ты, Эномай, — ты ведь самый сильный и смелый из всех десяти тысяч гладиаторов в школе Лентула Батиата, а что ты успел сделать за это время? Как ты употребил свое влияние на гладиаторов, которым ты обязан своей силой и мужеством? Сколько человек ты собрал и привлек в наш Союз? Многим ли известна суть задуманного нами дела? Разве нет таких, кто не особенно доверяет тебе и побаивается твоего необузданного нрава и твоего легкомыслия? А многие ли знают Крикса или меня, относятся к нам с уважением и ценят нас?
— Вот именно потому, что я не такой ученый, как ты, и не умею говорить так красно и убедительно, ты и должен быть среди нас. И я добился — правда, не без труда, — чтобы наш ланиста Батиат пригласил тебя преподавателем фехтования в свою школу. Смотри, вот его письмо. Он приглашает тебя в Капую. — Эномай вытащил из-за пояса тонкий свиток папируса и подал его Спартаку.
У Спартака загорелись глаза; он схватил свиток, сорвал печать дрожащей от волнения рукой и стал читать письмо, в котором ланиста Батиат писал, что, наслышавшись об искусстве и доблести Спартака, он, ланиста, приглашает его в свою школу гладиаторов в Капую для занятий с учениками, а в вознаграждение предлагает превосходный стол и большое жалованье.
— Так почему же ты, безумный Эномай, не дал мне письмо сразу, как приехал, а столько времени потратил на разговоры? Ведь именно этого я и ждал, хотя боялся надеяться. Там, там, среди десяти тысяч товарищей по несчастью, мое место! — восклицал гладиатор, сияя от радости и полный энтузиазма. — Там я постепенно переговорю с каждым в отдельности и со всеми вместе, зажгу в них ту веру, которая согревает мою грудь. Оттуда в назначенный день по условному знаку выступит армия в десять тысяч бойцов! Десять тысяч рабов разобьют свои цепи и бросят звенья этих цепей в лицо угнетателям! Из железа позорных своих цепей десять тысяч рабов выкуют клинки непобедимых мечей!.. Ах, наконец-то, наконец-то я заберусь в гнездо и отточу зубы змеенышам, которые будут жалить крылья дерзких и гордых римских орлов!
И, не помня себя от радости, рудиарий еще раз перечитал письмо Батиата, а затем спрятал его на груди. Он то обнимал товарища, то быстрым шагом ходил по аллее, то возвращался к Эномаю и, словно помешанный, бормотал какие-то бессвязные слова.
Эномай смотрел на него, не зная, дивиться ему или радоваться, и, когда Спартак немного успокоился, сказал:
— Я счастлив, что ты так доволен. А как обрадуются сто тридцать наших товарищей, вступивших в Союз! Они с нетерпением ждут тебя и надеются, что ты совершишь великие дела.
— Это плохо, что они ждут слишком многого…
— Вот ты переедешь к нам и успокоишь наших буянов.
— Но ведь это самые твои близкие друзья и, значит, такие же неистовые, как и ты… Да, да, понимаю. Действительно, мое пребывание в Капуе будет полезно, а то они погубят все дело. Я удержу их от опрометчивых вспышек.
— Спартак, клянусь, я предан тебе всей душой, я буду слушаться тебя и во всем буду тебе верным помощником.
Оба умолкли.
Эномай пристально смотрел на Спартака, и обычно суровый взгляд его выражал нежность и любовь. Вдруг он воскликнул:
— А знаешь, Спартак, с тех пор как мы встретились впервые — больше месяца назад, на собрании в Путеолах, — ты стал красивее и как-то женственнее… Прости меня, я не то хотел сказать… просто ты стал мягче… слово «женственнее» к тебе не подходит…
И тут Эномай вдруг умолк, потому что Спартак сразу переменился в лице, побледнел и, проведя рукой по лбу, тихо сказал несколько слов — так тихо, что гигант Эномай не расслышал их:
— Великие боги! А как же она?..
И несчастный рудиарий, которого любовь к свободе и братская любовь к угнетенным, жажда возмездия и надежда на победу привели в необычайное волнение, вдруг угас, поник головой и стоял молча, отдавшись во власть воспоминаний.
Молчание длилось долго.
Спартак, погруженный в горестные мысли, не проронил ни слова; в душе у него шла мучительная борьба, грудь тяжко вздымалась. Эномай, не нарушая его размышлений, стоял, скрестив на груди руки, и с сочувствием смотрел на страдальческое лицо рудиария.
Наконец он не выдержал и, стараясь не задеть товарища, сказал мягко и сердечно:
— Значит, ты покидаешь нас, Спартак?
— Нет, нет, никогда! Никогда!.. — воскликнул, весь дрожа, фракиец, подняв на Эномая свои ясные голубые глаза, на которых выступили слезы. — Скорее я покину сестру, скорее покину… — и, запнувшись, продолжал: — Все я брошу, все… но никогда не оставлю дела угнетенных, всеми покинутых рабов… Никогда!.. Никогда!.. — И, помолчав, добавил: — Не обращай на меня внимания, Эномай… Иди за мной. Хотя сегодня в доме Суллы день глубочайшего траура, на кухне мы найдем, чем тебе подкрепиться. Но только смотри: ни слова о нашем Союзе, ни одной вспышки гнева, ни одного проклятия!..
Сказав это, Спартак повел гладиатора ко дворцу.
На тринадцатый день после опубликования решения сената о похоронах Луция Корнелия Суллы за счет государства и о воздании ему весьма торжественных почестей, похоронное шествие, сопровождавшее останки Суллы, двинулось от виллы диктатора по направлению к Риму, городу на семи холмах.
Почтить усопшего съехались люди со всех концов Италии. Когда погребальная колесница тронулась из Кум, впереди нее и за ней шли, кроме консула Лутация Катулла, двухсот сенаторов и такого же количества римских всадников, все патриции из Кум, Капуи, Байи, Геркуланума, Неаполя, Помпеи, Путеол, Литерна и других городов и деревень Кампаньи. В процессии участвовали представители всех муниципий и городов Италии, двадцать четыре ликтора, консульские знамена, орлы всех легионов, сражавшихся за Суллу, и свыше пятидесяти тысяч легионеров, добровольно явившихся в полном вооружении, чтобы отдать последний долг полководцу. Несколько тысяч отпущенников из трибы корнелиев, прибывших из Рима, шли за колесницей в траурных одеждах, за ними — многочисленные отряды трубачей, флейтистов и кифаристов; тысячи матрон в серых столах и в строгом трауре; нескончаемые толпы людей, прибывших в Кумы из разных местностей Италии.
На роскошной колеснице, которую везли шесть словно выточенных из черного дерева коней, покоилось набальзамированное и умащенное благовониями тело диктатора, завернутое в золотисто-багряную императорскую мантию — палудамент [140]. Первыми шли за колесницей Фавст и Фавста, дети Суллы от Цецилии Метеллы, Валерия, Гортензий, Публий и Сервий Сулла, дети Сервия Суллы, брата усопшего; за ними — близкие родственники, одетые в темные тоги, отпущенники, великое множество друзей и знакомых, — все они старательно показывали свое безутешное горе и скорбь.