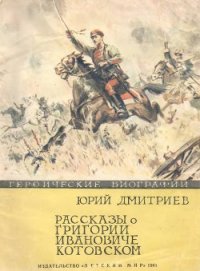Меч и плуг (Повесть о Григории Котовском) - Кузьмин Николай Павлович (читаем бесплатно книги полностью .txt) 📗
Зная, что Котовский не выносит мелочной опеки (а дай ему самостоятельность — расшибется, но сделает!), командующий замолк. Комбриг, вглядываясь в треугольник, посапывал и проводил ладонью по бритой голове от лба к затылку и обратно.
Словно смягчая задачу, командующий добавил:
— Лес, я понимаю, неподходящее место для кавалерии.
— Да… они шарахнутся, — проговорил комбриг как бы для одного себя. Потом он очнулся от раздумий и твердо посмотрел в ожидающие глаза Тухачевского. — Ничего, пускай. Пускай шарахаются.
…Напоследок он достал список заготовленных Юденичем требований, а остаток дня провел в штабе, уточняя детали передислокации и взаимодействия с соседями.
Глава двенадцатая
К радости штаб-трубача Кольки, передислокация сил бригады вынуждала Криворучко с двумя эскадронами своего полка несколько дней остановиться в Шевыревке.
Для размещения прибывших пришлось потесниться. Шевыревка походила на большой военный лагерь. В деревне пахло лошадьми, сукном, ремнями — сложный запах крупных кавалерийских соединений. Деревенские дворы, забитые повозками и лошадьми, стояли раскрытыми настежь.
Семен Зацепа с Колькой поместились у Ельцовых. Тесновато было, но Колька успокоил хозяев:
— Мы на природе спать любим, в избу не полезем.
Каждое утро, очень рано, звонкая труба играла подъем, и вместе с полуголыми бойцами на луг напротив штаба бежали и деревенские смотреть диковинное представление — эскадронный Девятый, щеголяя пушечным голосищем, нараспев заводил: «И-и… раз!» — и по его команде неровные ряды разом приседали, дружно взмахивали голыми руками.
Милкин, приучившийся вскакивать с первыми звуками трубы, топом знатока пояснял соседям:
— Кровь полируют. Надо понимать, чтоб жир не завязался.
За последние дни Милкину удалось завести знакомства среди бойцов, и перед односельчанами он держался по-козырному. Заметив, что Мартынов и Мамаев охотничьими глазами поглядывают Настю Водовозову, дочь Ивана Михайловича, он сразу же предупредил парней, что тут дело безнадежное, девка блюдет себя, как положено, и вызвался свести дружков к Фиске-самогонщице, свел украдкой, чтобы никто не засек, и теперь чувствовал себя человеком, владеющим военным секретом.
Была у Милкина еще одна слабость — здороваться с командирами, часто бывавшими в штабе. За несколько шагов он с каким-то вывертом сгибался и брал свой истрепанный картузик наотлет. В ответ командиры четко подбрасывали руку к козырьку. Церемония воинского приветствия доставляла Милкину такое наслаждение, что одним и тем же людям он старался попадать на глаза по нескольку раз в день. Все повторялось так, как ему нравилось, один лишь Криворучко, имевший цепкую память лица, начал проявлять сердитое недоумение и оглядываться. И Милкин испугался. От Мамаева с Мартыновым он слышал, какой кавалерист и командир этот страшноватый человек, с усами и большим упрямым носом. Что и говорить, мужик приметный!.. А вскоре произошло событие, заставившее Милкина испугаться еще больше, и он стал прятаться от Криворучко: ему казалось, твердый взгляд комполка пронизывает его насквозь и видит, что это именно он свел забубенных парней Мамаева и Мартынова к беспутной самогонщице Фиске.
Бывшему трубачу Самохину в Шевыревке не повезло: квартировать ему выпало у Миловановых, и от неуютности он уходил на бревна к путятинскому дому, расстегивал гармонь и принимался тыкать пальцем в пуговицы, разучивая «Хаз-Булат удалой». Однажды он услышал голос хозяйки, поднял голову, вгляделся, и сердце у него упало: горластая, скандальная Милованиха гналась но огороду за человеком в военной кавалерийской форме. Человек убегал и тащил в руке курицу со свернутой головой. Хозяйская собачка, лежавшая у ног Самохина, вскочила, тоже бросилась вдогонку, залилась обрадованным лаем. В убегавшем с курицей бойце Самохин узнал Мамаева и сразу же подумал: доигрался!
Позорная погоня, причитанья Милованихи, лай Шарика — все это не могло остаться незамеченным. Стыд-то, стыд какой от всех!
— Брось! — закричал Самохин и затопал сапогами. Мамай его не слышал, да и не мог услышать.
Оставив на бревнах гармонь, Самохин кинулся наперехват и снова закричал:
— Брось! Брось, говорю тебе!..
Под лай собаки и бабий голос он быстро настиг беглеца, схватил за плечо.
— Да стой ты!
Бледный, обезумевший Мамай ударил его наотмашь.
— Уйди! Убью! — заорал он, выкатив глаза.
«Совеем рехнулся!» — пожалел его Самохин.
Рассудок, видимо, вернулся к Мамаю, он остановился, увидел курицу в своих руках, и его стала бить мелкая неудержимая дрожь. Подбежали еще бойцы, налетела распатлаченная Милованиха.
Всю дорогу к штабу Мамай не обращал внимания на Милованиху, которая, торжествуя, колотила его курицей по голове.
Бойцы, ввалившиеся в штаб, остались у порога, вытолкнули Мамаева вперед. Из-за стола поднялись Юцевич и Борисов. Позорный случай! Давно такого не бывало!
— Все, товарищи, идите, — распорядился Борисов. Неловко переминаясь, бойцы вышли крыльцо. Ну не дурак ли? Надо же — на курицу польстился!
На них снизу вверх смотрел бледный, запыхавшийся от бега Мартынов.
— Ну… что там, братцы?
Никто ему не ответил, никто него не посмотрел. Знали все: где один, там и другой, значит, и теперь гуляли вместе.
Альфред Тукс ткнул в него свой твердый честный взгляд:
— Ты куда смотрел, дурак? Ты на девку смотрел? Да? Мартынов заозирался:
— Какую девку? Чего ты мелешь?
— Ее зовут Фиска. Ты думаешь, я слепой?
— Катись ты, слушай!.. — махнул Мартынов и остался ждать у штаба.
Он был ошеломлен случившимся. Еще недавно они гуляли у Фиски-самогонщицы, в ее избушке с завешенными для предосторожности окошками, и он снова убеждался, как неотразимо действует баб вся властная повадка Мамая. Вот уж кто никогда не стелился перед ними, не обольщал! Бабы сами обычно счастливы были считать его своим хозяином… Дернуло же Фиску за язык! «Вот тебе, пополам да надвое! — пропела она, поедая Мамая глазами. — Что же вы, граждане-товарищи, какую куру не заарестовали на закуску?» Тут Мамай и поднялся (неловко ему стало, что ли, что пришли с пустыми руками?): «Сейчас мы кое на кого контрибуцию наложим…» И ушел. Наложил контрибуцию! Что теперь будет с ним, что будет?
В штаб бурей ворвался Криворучко. Позор в первую очередь ложился полк.
— Ты что, голодней всех, а? Или мы все жрем в три глотки, а ты один такой, а? Или тебе больше всех надо? Да мы за это бандитов шлепаем, а ты… Ты понимаешь, нет? Что ты молчишь, бандитская морда?
Он схватил Мамая за грудь, посыпались пуговицы, стал срывать с него портупею, ремень, бросил все на пол, неистово топтал ногами.
— Так знай вот — нету пощады! Не будет. Все тебя ненавидят, когда ты так с нами… Все! Весь полк!.. За грязь такую, за… Да что с ним говорить? Нету ему больше моих слов! Все!
Мамай стоял растерзанный, в распущенной гимнастерке, одним видом напоминая чужого, отверженного всеми. Низко-низко опустил он свою беспутную голову. В его кудрях, в сберегаемом для девок чубе позорной уликой застряло пестрое куриное перо. Криворучко знал его, пожалуй, как никого другого из своего полка. Лихой был парень, выдающийся, но все же что-то постоянно настораживало в нем. Мамаев понимал, что в боевое время человек ценится по тому, как ведет себя в бою, и он сознавал свою цену и позволял себе многое, не сомневаясь, что на войне, когда люди живут из боя в бой, командиры вынуждены кое на что смотреть сквозь пальцы. Нынешней зимой в Умани для них с Мартыновым настало пресное существование, и оба с радостью узнали о приказе выступать в Тамбовскую губернию.
Молчание висело тяжело, невыносимо тяжело.
— Батько, — прошептал Мамай, не поднимая головы, — дай мне наган. Наган с одним патроном… Или я не заслужил?..
Что-то дрогнуло в лице Криворучко, тяжело ступая, он приблизился к виновному вплотную:
— Ты думаешь, мы тебя за чуб за твой, за красоту выделяли? — пальцем подкинул спутанные волосы над лбом Мамая и брезгливо проследил, как пол, кружась, полетело стронутое куриное перышко. — Потому и считали тебя… А теперь — сам знаешь, не маленький. В трибунал пойдешь. Что заработал, то и получишь. Никакого для тебя нагана! Понял? Ни одного патрона не стоишь. Сами шлепнем перед строем, чтобы все видели.