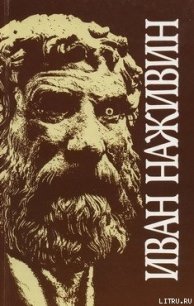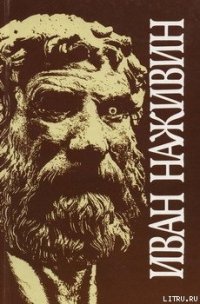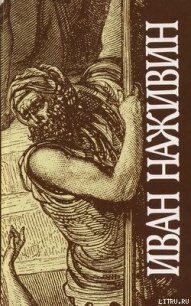Глаголют стяги - Наживин Иван Федорович (серия книг TXT) 📗
На княжом дворе в Киеве с раннего утра собралась Оленушкина нищая братия. За тыном высоким, над светлым Днепром, Перун виднелся. Пред ним, как всегда, жертвенный дым курился. Оленушка велела было отрокам прибрать куда чудище это, но все только ужахались её смелости, и никто бога и тронуть не посмел. Оленушка совсем забыла про него и с своей греющей сердца улыбкой обходила своих несчастненьких в сопровождении рабынь и раздавала всем пищу и одежду, ласкала детей, расспрашивала и утешала больных. «Солнышко ты наше, — умилённо говорили одни. — Как бы мы жить-то без тебя стали?..» Но, умилившись, часто вступали в перекоры, а то и в драку из-за милостыньки, и Оленушка должна была уговаривать их и мирить…
В сторонке от всех стоял стройный и оборванный человек, обросший волосами, с точно опалённым лицом. Печальные глаза его неотрывно смотрели на Оленушку. Она присмотрелась к нему и вдруг тихонько ахнула:
— Варяжко!.. Ты ли это?
Его губы задрожали.
— Я, княгинюшка… — едва выговорил он.
— Господи… А я уж и не чаяла живым тебя видеть… Ещё сильнее задрожали губы.
— А нешто ты поминала меня когда?
По её белому, прозрачному лицу, на котором звёздами горели эти глаза её удивительные, утренним облачком прошёл лёгкий румянец. И задрожали ответно губы…
— Поминала… — потупившись, тихонько уронила она. — И иногда с заборала смотрела в степь и мнилось мне: вот сидит мой Варяжко где-нито на кургане зелёном и смотрит за Днепр… Жалко мне тебя было!..
Опалённое лицо побелело. Но Варяжко справился. Он не отрывал от неё глаз. Да, прежней Оленушки, которая заколдовала его на всю жизнь, не было уже, она умерла в этой новой, уже отцветшей Оленушке, которая светится вся, точно зорька над степью бескрайной, но как всё же сладко было бы пасть к ногам её и — плакать, плакать над всей разбитою неизвестно зачем жизнью своей!..
— Ты погоди маленько, пока я раздам милостыньку моим несчастненьким… — сказала ему Оленушка. — А потом покормлю и тебя, и ты мне все расскажешь… Я сейчас…
Варяжко отошёл в сторону и сел у корней старой черёмухи, которая вся точно сметаной облита была. И упоительно-горький дух её пел ему в душу о сгоревших годах его безрадостной жизни. И издали следил он за своей ладой милой, которую он проносил в душе своей все эти годы, точно бога какого, и которая теперь на его глазах, в его сердце преображалась тихо и светло в Оленушку новую.
— Ну, вот я и готова… — сказала она. — Девушки, соберите скорее гостю нашему покушать, а ты, Смелка, посмотри в подклети, во что бы нам одеть его. Ну, поживее.
И рабыни уставили под черёмухой цветущей стол, стольцы принесли и брашен всяких наставили, и Оленушка, угощая гостя, подпершись, смотрела на него своими чудными очами и расспрашивала о горьком житьё-бытьё его.
— Но как же ты всё же не побоялся выйти из степи?.. — спросила она. — Ты с печенегами своими насолил князю не мало… Пожалуй, разгневается он…
Варяжко улыбнулся надломленной улыбкой.
— Ничто не страшит уж меня, княгинюшка, — сказал он. — Смерть? Так что же? Печенегов водить на Русь, конечно, дело не сладкое, не хочу больше, а своё горе… Тут никакие печенеги не помогут. Пусть казнит, коли хочет…
— Ах, что ты говоришь, нескладный!.. — сморщилась точно от боли Оленушка. — Да разве жизнь в том только, чтобы… женщину любить?
— А в чём же?
— А в том, чтобы всех любить… Только эта любовь даёт радость благодатную и немеркнущую…
Она вспомнила свою тайну заветную о конечном прощении Христом вся и всех, и снова зарделось лицо её исхудалое, милое этим новым светом.
Был уже вечер золотой. Упоительно пахла старая, вся точно сметаной облитая, черёмуха. Внизу, в зарослях, шёл щёкот соловьиный, и посвисты, и раскаты. Над бором галицы кружились… И оба затихли, и молчали, и слушали свои сердца…
И вдруг с Днепра резкие звуки трубения трубного послышались: то сверху, с Новагорода, шёл караван… Кияне бросились на берег… И острогрудые ладьи одна за другой тыкались носом в мокрый песок, и кияне ловили и крепили чалки. С караваном прибыл Добрыня, наместник и уй княжеский, и тысяцкий новгородский Путята. Слух о взятии Корсуни и крещении князя с дружиной прошёл уже по всей Руси и взволновал её недоброй волной. Хмур был и старый Добрыня. И когда тут же на берегу услыхал старый воин от киян подтверждение недоброго слуха, он тяжело вздохнул своей широкой грудью.
— Безумных ни орють, ни сеють, ни в житницы собирають, — сказал он, — а сами ся рожають…
И он повесил белую голову свою, чуя старым сердцем, что что-то кончилось и новое, неизвестное, начинается. Но первым делом всё же он с Путятой, и с гостями новгородскими, и с гребцами поднялся на холм, к городку, и там перед Перуном многомилостивым принесли жаризну обильную за благополучную путину. Но на медно-красном лице его не было обычной решимости: так — так так, а эдак — так эдак… Твёрдый был человек, а и тот смутился.
Звезды уже проступили в небе, сильнее запахла черёмуха, и щёкот славий гремел по горам киевским. Варяжко, один, облокотившись на забрало, смотрел в степь, и по лицу его катились тихие слёзы…
XXXII. КРЕЩЕНИЕ РУСИ
И бяше си видети радость на небеси и на земли, толико душ спасаемых, а диавол, стеня, глаголаше: «Увы мне, яко отсюда прогоним есть».
Скоро с трубным трубением и шумом великим и кликами подошла и победоносная русская рать из Тавриды, и князь с княгиней своей молодой, и дружина хоробрая. Все кияне на Подол сгрудились и по горам рассыпались, чтобы лучше видеть торжество такое, но не было, как встарь, общей радости, когда вои с победой домой возвращались. Все чувствовали великую смуту на Руси, раздвоенность и были подавлены перед грядущим неизвестным. Пробовали успокаивать себя соображением, что кабы новая вера плоха была, князь да бояре не приняли бы её, но это действовало недолго, и снова начиналась сердечная грызь. И когда в гору, по Боричеву взвозу, поехал воз изукрашенный, в котором неподвижно сидела царевна заморская, точно идол какой золотой, народ не смел даже приветствовать её кликами: до того жутка была эта высохшая нежить, поводившая сердитыми глазами семо и овамо! И точно бор старый под бурей зашумели кияне, когда вслед за ратью повезли в город к палатам княжеским две бронзовых капищи да четырёх бронзовых же коней.
— Глядите, глядите: вот они, новые боги-то!.. — ужахались бабы. — Глядите: коням хотят нас заставить кланяться… Да что же теперь это будет?! Умрём, а не поддадимся…
С ненавистью и отвращением смотрела толпа на лысых грецких попов, диаконов и дьяков-покаяльников, которые, подымаясь на горы киевские, кадили и голосили что-то по-своему. И когда увидели кияне среди них Ядрея-перевозчика да Берынду, непутного свещегаса, обоих тоже попами одетых, они встретили их смехом и ругательствами. И все на Перуна многомилостивого оглядывались: долго ли бог высокий терпеть будет все это, когда поразит он стрелами золотыми своими всю эту нечисть иноземную?.. Но торжествен и безмятежен был бог высокий над русской рекой, над землёй Русской, точно нисколько не касалось до него то, что происходит в его граде Киеве по горам зелёным, солнечным, по которым цвела черёмуха душистая и гремел повсюду щёкот славий. И добродушно хохотал в небе Дажбог золотой на озорников киян…
Все потихоньку разместилось по своим местам, и началась обычная трудовая жизнь земли Полянской: смерды орали земли свои ролейные, яровое сеяли, с верою отдавая свои посевы под охрану богов всеблагих; на Подоле разгружались и нагружались караваны, и ладьи будоражили старую Непру, как и встарь; вои до времени по домам разошлись, а дружинники, теша сердце молодецкое и пленяя красоток киевских, на играх воинских, на поездьстве отличались… Нового было только, что на месте Оленушки в хоромах высоких царевна Анна поселилась, а около хором княжеских поставили капищи бронзовые из Корсуни да четыре коня, и тут же, неподалёку от них, каменщики наспех церковь класть взялись какой-то Пресвятой Богородице. Всеми делами этими крутил Анастас-корсунянин, липкий человек. А нового было то, что не только в церковке Илии Пророка на Подоле, но и на торжище, и на росстанях и перекрёстках новые попы, языком спотыкаясь, уговаривали все киян приять веру истинную. Но кияне с этим делом не очень торопились…