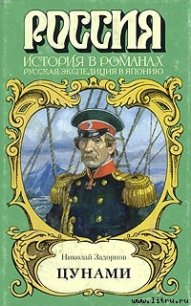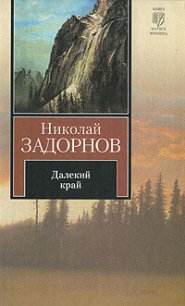Могусюмка и Гурьяныч - Задорнов Николай Павлович (читать книги txt) 📗
— Нынче всюду перемены! — отозвалась старуха. — Народ волнуется!
Это был как раз тот разговор, который и желала завести Настасья.
— Вы-то богаты, вам что...
— Какие мы богатые, — небрежно сказала Настя.
Сама она была из бедной семьи и все ее богатство, принесенное мужу, — здоровье и красота. Первое время после замужества льстило, что живет в достатке, но потом привыкла.
Зашумел самовар, запел, засвистал.
— Ишь ты, пузатый, деньги ворожит! — проговорила Акулина.
Настасья сняла трубу с самовара, продула его, подкинула углей.
— Нынче Прокоп-то на базаре толковал, что, мол, дело нечисто. Народ-то глуп, мол, лихие люди его мутят. Разбойники, мол.
— Уж что это, бабушка! Какие же разбойники? — с притворным изумлением спросила Настя.
— Ох, верно, милая, есть люди в лесу, скитаются они, за бедных заступаются. Их богатые клянут, их ищут... А мне их жалко, я за них богу помолюсь. Они такие же люди, как мы. Слыхала ты, поди, про Степку-то Рыжего, жена-то у него Марфа, отец-то ее барки на запани ладит. Так веришь ли, Настенька, васейка один мужик с рудника приехал, сказывал, будто и Степка ушел в лес. Слух идет, что нынче есть голова всему делу...
— Да ты не о Гурьяне ль толкуешь, бабушка? — сделанной наивностью спросила Настя.
— О нем о самом. Люди говорят — разбойник. Эка ведь!.. А он ведь святой! Святой великомученик! И в старину святых казнить хотели. Страдает народ!.. Он узнал, что горе у нас, и вышел. Бродит под заводом по лесу. Его бог послал. Да ты что это закраснелась? Как тебя краской-то залило...
— Да это я так, — не смущаясь, ответила хозяйка. — Самовар-то продувала, вот, видно, меня и разжарило.
— Уж знаю, знаю!.. Был у тебя ухажер!..
— Вот, ей-богу, нет, не от того. Жарко, чай!
Самовар закипел, заплескался, пар повалил из-под дрожащей крышки. Настя убрала трубу, вытерла самовар тряпкой и подняла его на стол.
— Угощайся, бабушка, — поставила Настасья изюм. Хоть и желала она потолковать о Гурьяне, но теперь уж и не рада была, что зашел такой разговор. — Это, бабушка, виноград сушеный, Азиаты его продавали. Захар из Азии привез с ярмарки. Кушай, бабушка, кушай.
— Уж Захарка твой не знает, как мудрить. Чего только не везет в магазин. И азиатские-то и московские товары! То-то есть с чего жиреть да во что наряжаться. Эта шаль-то давно у тебя куплена?
— Третий месяц. Санка из города привез.
— Добрая шаль! Шелк чистый... И оренбургские, поди, есть у тебя?
— Как же! До пят, и вся шаль, бабушка, в перстень проходит...
Из козьего пуха, вычесывая его весной, вязали шали и на заводе, но таких, чтобы проходили в перстень, здесь делать не умели.
— А ты, баба, бога гневишь, такого мужика не ценишь!
— Как это не ценю?
— Да уж по глазам вижу! Книжек-то начиталась, вот и лезет в голову всякое.
— И вовсе нет. Один только раз во сне чью-то бороду видала, будто так и искололо всю щеку...
— Спасибо, мать моя, спасибо, — отставила и перевернула старуха пустую чашку, делая вид, что не слышит.
— Ах, бабушка, что же, по-твоему, мне в голову лезет? — шутливо отозвалась Настя, и голубые глаза ее приняли опять наивное выражение.
— Грех! — молвила старуха. — А вкусный этот твой виноград!
— Какой же грех? Расскажи-ка мне, уж я люблю послушать. Распиши мне про грехи-то...
— Ишь ты! Не тяни меня за язык, сама знаешь... Ты не шути: Гурьян не зря ходит, ох, не зря!.. И на заводе у нас неспокойно. Люди мучаются, страдают. Жаль мне их, а чует мое больное сердце — быть беде...
Тут старуха оглянулась на обе стороны, как бы кого-то опасаясь, и заговорила потихоньку:
— Быть бунту... Быть, родимая, сердце мое трепещет... Вот я тебе расскажу. Идет вчера племянница моя по плотине и смотрит — стоит народ, смущение произошло: Люхина Андрейку с кричной фабрики на руках вынесли. С тех пор как кричную ломать стали, его немец на печи поставил, а Андрейка все томился, говорил: «Нет у меня расположения!» И вот как лётку пробили, как хлынул чугун, да и, видно, чуяло его сердце недаром — уж как угодило, никто не знает, а только забрызгало ему глаза... Вот я и говорю, что быть бунту. Найдется мужик умный, голос подымет зычный, прогремит, что господня труба. Страшный-то суд начнется. В старину подымался у нас народ. Я от бабушки слыхала, как людей терзали, как потом казнили... И все сердце с детства болело у меня за тех, кого повесили.
— Так уж дозволь, я тебе еще налью, — сказала Настя.
— Нет, и на том спасибо.
— А коли хочешь, так у меня варенье свежее наварено.
— Э-э, нет уж, пора и честь знать. Вишь ты, солнце на закате. Того и гляди Андреич воротится.
— Так что же с того! Какое его дело, это мы сидим.
— Да лясы точим, как ни дело.
— И-и!.. Не беда, посиди, бабушка.
— Мне всех жалко. В старину ведь был бунт на заводе. Пугач приходил с войском. Обратился он к нашим заводским крестьянам: «Эй! — сказывал. — Загребенские, запорожские и вы, мужички заводские, со пня садитесь, а с дубины не валитесь». Истинное слово, так Пугач говорил. Сами-то были нищие и темные, не могли на коня вскочить, не умели верхом ездить, а Пугач был казак, хорошо сидел на коне. Он и сказал: мол, со пня садитесь... А то в седло, мол, вскочить не умеете с места, так хоть со пня, мол, а с дубины не валитесь, это потому, что дубинами воевали, оружия на всех не хватало, мужики с кольем поехали. А сам будто сел на красную лодку и поплыл вниз по Белой. Тогда в Белой воды было больше, а теперь курица перейдет. А нынче леса рубят — все сохнет. Прежних рек нет. Могусюмка-то поэтому и бунтует: ему леса жаль. Пошли тогда за Пугачом и наши мужики. Один из них, Люшой его прозвали, и теперь еще жив. Люшу знаешь? Люхины-то от него, его род. Жив, жив еще. Он один только не помер из тех, кто бунтовать ходил. Уж скрючило его, а смерти нет. Другим-то ноздри рвали и били всяко, а ему обошлось. Он в воде пересидел. Покуда других ловили, он да наш-то дедушка взяли в рот по тростинке да и залезли в озеро, а после в лес убежали... Ну, мне домой пора. Спасибо за угощение. Прости нас, грешных. А ты евангелие-то читаешь?
— Нет, бабушка.
— Грех... В евангелие-то сказано и про бунты, читай, хорошенько, читай да разумей, там и про наш завод сказано. Я все жду. И немца мне жалко: он ведь один живет, как сирота. Тоже, поди, жене и детям хочет заработать. И как подумаешь, мы чем виноваты, за что нас мучить? А чем башкиры виноваты? Уж их-то доля не легка, лес у них вырубают... Могусюмка-то недаром бродит, а ведь сам он славный, добрый, ласковый. А все свой урман жалеет. Бывало, встретит меня, ухмыльнется да спросит: «Здорово, бабка, как, мол, живешь?» А я его спрошу: «Ну как, мол, еще цел твой урман?» — «Еще маленько цел», — отвечает. «Ну, — говорю,— коли цел, так тебе есть еще где укрыться, слава богу!»
Старуха вспомнила, как башкиры бунтовали в старину, как их запарывали насмерть, одинаково с заводскими. Насте так и не удалось еще порасспросить про Гурьяныча. А хотелось опять повернуть разговор на него. Бабка ушла. Под окнами мелькнула ее коренастая темная фигура.
Настя вымыла чашки, убрала самовар и посуду, собрала крошки со столешника. Установила возле печки гребень в донце. Вытащила из ящика мохнатый ворох кудели, посадила на деревянные зубья, уселась прясть. Сегодня не читалось. Когда читаешь, думаешь про других, а сегодня хотелось про свое.
А в окне проплыл высокий картуз Захара, загремела щеколда.
Хозяин пришел домой.
— Что это ты сегодня замешкался?
— Новый управляющий в лавке был, да с Петром товар в Низовку отправляли.
В Низовке открыл Булавин лавку, и торговля там шла очень хорошо, не хуже, чем на заводе. Деревня большая, и других купцов нет.
— Управляющему-то чего надо?
Захар разделся, стал умываться. Заметно было, что он не в духе.
— Так вот, пришел он ко мне: дай, мол, ему сукна на шубу. Разворачиваю один товар, другой — все ему не по нраву, — рассказывал Захар, стуча медным рукомойником. — «Ты, — говорит, — купец, привези для меня такой товар, чтобы другие его не покупали. Я не могу носить такой материал, который носят все. А пока, мол, отрезай сукна», — и показывает на тот кусок, что Санка из Кундравы привез, — только я его буду левой стороной наверх носить, чтобы на других не было похоже. Завернул ему, подаю, а он и говорит: зачем же это я письмо подписал, жалобу, мол, это не купеческое дело, да еще, мол, с Рябовым в компании. Оказывается, приехал инспектор из города: видно, нашей жалобе дали ход. Да как дело обернется — бог весть. Управляющий доказывает, что, мол, надобно подсоблять друг другу, контора с торгующим купцом должна жить в мире, доказывает мне, что машинная сталь лучше и что Азия нашей стали не берет. «Да ведь я купец, — отвечаю ему, — бывал в Азии и знаю, какой там спрос на нашу сталь». Завтра нам идти в контору. Меня, Рябова и учителя призывают. Да Ивана Кузьмича я уже третий день не вижу...