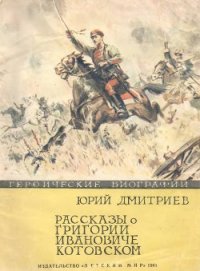Меч и плуг (Повесть о Григории Котовском) - Кузьмин Николай Павлович (читаем бесплатно книги полностью .txt) 📗
Лето тогда для бригады выдалось горячее. Бойцы, злые, терпеливые при отходах и страшные в натиске, проламывали сопротивление врага и целились на границу, проходившую по реке Збруч. Комбриг был с передовыми эскадронами, ходил с бойцами в атаку, спал на земле, завернувшись в бурку. По урывочным донесениям, поступавшим в штаб, Юцевич прокладывал на карте путь бригады и покачивал многоопытной головой: фронтовая обстановка не нравилась ему все больше.
В ходе горячего наступления между частями 45-й дивизии и правым флангом 14-й армии стал постепенно намечаться разрыв. Противник был бы круглым дураком, если бы не воспользовался счастливой возможностью зайти в тыл. Впрочем, угрозу окружения Котовский чувствовал все время. «На меня все время наседают слева, — сообщал он Юцевичу. — Отбиваюсь и продолжаю двигаться». Самому Юцевичу со штабом опасность грозила в Любаре.
Дураком себя противник не показал. Когда бригада овладела Изяславлем, обнаружилось, что с тыла она отрезана. Штаб, обозы, госпиталь — все сгрудилось в маленьком городишке. С окраин целыми днями, от зари до зари, доносились звуки боя — там эскадроны пытались выправить угрожающее положение. Комбриг, надеясь проломить дорогу из кольца массированным огнем, торопил Юцевича с формированием артиллерии. Для добывания упряжных лошадей он приказывал не жалеть соли и сахара (в обмен у населения).
В непрерывных боях бригада несла потери. 24 июня тяжело ранило Иллариона Нягу. Занятый по горло, комбриг не нашел времени проститься со старым другом и соратником (больше он Нягу не видел; похоронили Иллариона в той же Тараще, рядом с Макаренко). 6 июля в бою под Антонинами получил рапу Криворучко, но превозмог себя и остался в строю. Кольцо окружения продолжало сжиматься. Кажется, наступил момент, когда любое усилие врага может оказаться для бригады роковым.
В этот день над расположением бригады появился аэроплан. Бойцы открыли стрельбу из винтовок. Летчик сбросил несколько гранат, затем снизился чуть не до крыш и выкинул какой-то пакет. Там оказалась записка Котовскому. Комбригу предлагалось перейти на сторону поляков, в противном случае его убьют специально подосланные люди.
— Пускай они свою бабушку пугают! — рявкнул комбриг, когда Юцевич посоветовал ему на всякий случай взять охрану. — Я среди своих. Вон моя охрана! — и махнул на раскрытое окно.
В помещении штаба собирались сумрачные командиры. Котовский крупными шагами ходил из угла в угол, на его осунувшемся лице вспухали желваки. Юцевич за столом делал вид, что готовит бумаги. На стуле в углу, слегка раскачиваясь и закрыв глаза, сидел Криворучко с перебинтованной головой. Одни воробьи за окном, не делая никаких скидок на войну, возились по своим мелким делишкам.
О том, в какой переплет попала бригада, много говорить не приходилось. Борисов едва не вспыхнул и не наговорил комбригу дерзостей, когда тот, отдавая распоряжения насчет завтрашнего боя на прорыв, вдруг представил необстрелянному комиссару вполне благовидную возможность уклониться от участия в атаке. Бой предвиделся жестокий: кто кого? Потом Борисов пожалел: зря не вспылил! В самом деле, что за оскорбительное предложение? У него уже налаживались отношения с бойцами, но он чувствовал в своем положении комиссара один изъян — он еще ни разу не ходил с ними в атаку, не был рядом с ними в лаве. Он знал, сама атака обычно занимает мало времени, но это время так насыщено, что секунды там не мелькают, а начинаются и кончаются, умещая в себе много, очень много. Недаром после сшибания с лавой противника бойцы отходят, точно после беспамятства. Но если раньше участвовать в атаках ему просто не представлялось случая, то теперь, когда вся бригада готовилась к прорыву, его место было в первых рядах. Иначе бойцы посчитают, что он балаболка, а не комиссар. (Высокие слова о Родине и долге Борисов не часто употреблял. Вся жизнь бойцов проходила под знаменем, оно осеняло все их мысли и усилия, следовательно, у кого, у кого, а у них-то чувство Родины и долга в самой крови!)
Короткая июльская ночь походила на затишье перед грозой. Каждый в одиночку кормил коня, в темноте что- то шептал ему, наглаживал по шее. Кони поворачивали длинные умные головы и, хрумкая, смотрели на проходившего комиссара. Борисов замечал вповалку лежавших на земле бойцов, кое-где тлели угли прогоревшего костра.
— Лошадь погладишь, потом неделю руки пахнут! — расслышал он чей-то голос. — А у тебя? Керосин один. Тьфу!
Это спорили на свою извечную тему ординарец комбрига Черныш и «Ваше благородие», шофер трофейного «роллс-ройса». Вокруг них сидело несколько человек, слушали, коротали время.
Комиссар, не мешая, остановился поодаль.
Великий знаток лошадиной психологии, Черныш доказывал, что лошади ничем не отличаются от людей. Он знал в бригаде лошадей вежливых и застенчивых, хитрых и жуликоватых, грубых и настоящих матерщинников. Хамоватый жеребец ходит под седлом у Девятого, — ну, да у того другого и быть не может! Спокойная лошадь у Самохина, задумчив и нетороплив жеребец Бельчик, на котором ездит штаб-трубач Колька. Под стать хозяину лошадь Семена Зацепы. В бою, в рубке, Семен, как известно всем, от ярости плачет — прямо градом слезы из глаз! Лошадь Зацепы в бою преображается тоже — дьявол, а не конь. Вообще в бою что люди, что лошади — не узнать. Жеребец Криворучко, белоснежный красавец Кобчик, в обычное время любит подремать, положив голову на спину своей подруги, лошади ординарца, а в бою, наподобие Зацепы, визжит от злости. Черныш уверял, что когда наступает самая заверть рубки («дорвались!»), то люди сразу замолкают и слышится одно лишь ржание: отборнейшая лошадиная брань…
О близком бое напоминало все: тишина, неслышные приготовления, разговоры. Наедине с собой Борисов не таился и о сабельной схватке думал с ужасом. Дьявольский зрак скачущих коней, распластанные звезды на головах бойцов, вихрь бурок, сверкание клинков и звериный op сотен глоток! Но при этом его беспокоило только одно: выдержит ли он? Надо было выдержать, потому что трудно воспитывать мужество в людях, не показывая мужества самому. Если он выдержит и уцелеет, комбриг в следующий раз никогда не предложит ему второстепенного задания, больше того, он, Борисов, сам тогда может запросто сказать ему: «Гриша, я возьму на себя правый фланг».
Возвращаясь из обхода в штаб, он наткнулся на Мамаева. Балагур, охальник, Мамай той ночью удивил Борисова: держался за щеку и ходил, ходил, словно ходьбой надеялся унять какую-то нестерпимую боль.
— Что? Зубы? — посочувствовал Борисов.
Мамаев разглядел комиссара и смутился.
— Да нет. Так просто.
Он зачем-то пошел рядом. Шел, ни слова не говорил. Борисов догадался, что напряженное ожидание боя коснулось даже тех, кто войну смотрел как приключение, и ему стало легче.
Неожиданно Мамай взял его за локоть и придвинулся.
— Знаешь, что это такое — скакать в лаве?
В темноте он пытался заглянуть комиссару в глаза.
— Нет, — доверчиво признался Борисов, — Но думаю, страшно.
— Точно, угадал. Хуже, чем с обрыва глянуть. Себя не помнишь! Петр Александрыч, — жарко прошептал он в самое ухо, — ты завтра держись ко мне поближе. Ладно? На всякий случай.
И тут же повернулся, побежал, искренне стыдясь этого движения своей, казалось бы, вконец очерствевшей души.
Назавтра Котовский сам, при развернутом штандарте повел в атаку оба полка. Удар был страшен. Бригада изрубила восемьсот человек, в том числе двадцать офицеров. Повернув на Дунаев, эскадроны захватили переправы на реке Икве и вышли из окружения.
Этот бой запомнился Борисову еще и потому, что в нем он впервые ударил человека шашкой.
Порыв бойцов разметал встречную лаву, и вдруг Борисову увиделся казак, проскочивший невредимым через беспощадную гребенку эскадронов. Казак крутил клинком и походил на сумасшедшего: с распяленным ртом, с остекленевшими глазами. Что-то оборвалось в груди Борисова, когда он понял, что обезумевший казак видит его как цель и жертву. Ни остановить его было, ни уговорить — только убить, иначе он тебя убьет. И все, что было дальше, Борисов проделал механически, словно во сие. Неведомым путем он разгадал, что казак рубанет его с косым замахом, и успел подставить под удар клинок, а едва сталь лязгнула о сталь, он приподнялся в стременах, с упором ногу, и с необычной быстротой махнул в ответ, чуть-чуть назад (помнится, еще больно дернуло в спиле от поворота). Ему казалось, что удар вышел неважным, и он мгновенно развернул коня, но нет, казак висел ногою в стремени, с задравшейся рубахой, с голым пузом…