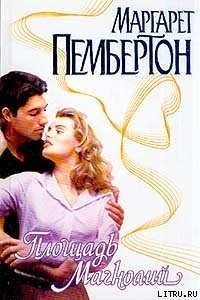Яков Тирадо - Филипсон Людвиг (читаем книги TXT) 📗
Прощайте! И коли мне захочет Бог помочь —
Лишаюсь я отца, вы – потеряли дочь!
Похищение состоялось, но девушка уходит не одна. Она уносит с собой шкатулку с драгоценностями и деньги – а между тем тут же очень стыдится переодеться в платье пажа, которое должно облегчить ей побег. Между украденными вещами находится даже обручальное кольцо ее отца, и она некоторое время спустя отдает его в уплату за купленную ею обезьяну! И несмотря на все это, выставляется она в пьесе добродетельной, верной и милой девушкой! Мария Нуньес была страшно рассержена, возмущена, находилась в таком состоянии, какого еще не испытывала ее чистая душа. Она чувствовала, что здесь автор не имел в виду никакой отдельной характеристики ее народа, даже никакой карикатуры на него, – тут было полное, сознательное стремление представить всех членов еврейского племени пошлыми, отвратительными чудовищами, придать гнусность всем явлениям их жизни и, таким образом, сочетать ненависть и предубеждение против них с беспредельным позором их действий и этими последними оправдать первые. Как! Преступной рукой хотят сорвать даже драгоценнейший клейнод, украшающий голову Израиля – неприкосновенную семейную любовь, чистое семейное счастье!.. И это тоже хотят растоптать и вымазать грязью?! Гений искусства, едва явившись благородной и развитой душе девушки, теперь представлялся ей укутанным в будничные одежды чисто человеческих страстей. В этой зале, в этом месте, где на народ должны были действовать облагораживающим, воспитательным образом – вся сила гения употреблялась на служение дикой ненависти, отрицанию всякой истины, самой грубой несправедливости!.. Таковы были впечатления, охватившие душу Марии Нуньес. Сердце ее сильно стучало, пульс лихорадочно бился, дыхание разгорячилось, руки и лоб покрылись холодным потом; она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Елизавета посмотрела на нее, заметила состояние, в котором та теперь пребывала, и с удовольствием подумала, что победа одержана. Да разве может кто-либо проникнуть в душу человека и увидеть творящееся в ней?
Все, что потом происходило на сцене, так мало интересовало Марию, что она не замечала этого. Только те места, которые касались главного предмета пьесы, приковывали ее внимание, усиливали ее тревожную напряженность. Насмешки, которыми действующие лица осыпали Шейлока, горько сокрушавшегося о потере дочери и стольких драгоценностей, бессердечность другого еврея, появившегося в одной из этих сцен – укрепили в Марии Нуньес убеждение, к которому она уже пришла. Но вот начались главные сцены драмы. Антонио потерял все свое состояние, он не может уплатить долг, срок векселя истек. Еврей сажает его в тюрьму, все просьбы, льстивые увещевания и угрозы, предложение Бассанио возвратить занятые деньги в тройном размере из приданого его невесты, ходатайство дожа и сенаторов – все остается напрасным: Шейлок желает вырезать фунт мяса из сердца Антонио. Сцена суда проходит во всей своей мучительной отвратительности, пока юридическая загадка не разрешается остроумной кляузой: пусть Шейлок берет свой фунт мяса, но за всякую пролитую при этой операции каплю крови и за каждую лишнюю сверх условленного фунта частичку мяса он поплатится своей жизнью. В заключение у него, в виде наказания за преступный замысел, конфискуют все состояние, которое тут же присуждается его дочери, мало того – его заставляют перейти в христианство, и он исполняет это по первому же требованию… Мария ожидала этой развязки. Она уже не поразила девушку так сильно, как это могло случиться чуть раньше, и не лишила ее возможности справиться с собой, сохранить присутствие духа. Нет – говорила она себе – это не евреи! Она бегло вспомнила все прожитое, виденное и прочитанное ею с первой минуты пробуждения в ней самосознания – и во всем этом не могла найти никакой точки опоры, никакого оправдания этим людям и их поступкам. Но она вдруг нашла их в других воспоминаниях. Теперь перед ее глазами проходили кровавые истязания, бесчеловечные преследования, гнусные злодеяния, она видела, как они совершались в тюрьмах, перед судилищами, на лобных местах, открыто – на площадях и тайно – в казематах, но совершались над евреями, которые не могли ничем воздать за них, врагами этого народа, часто по побуждениям низкой корысти и с помощью коварных интриг и подлых происков. Участь, постигшая всех ее друзей, представляла тому множество примеров. Образ ее благородной матери возник перед ней и неясно воскликнул: «Не верь им!» Она вдруг увидела перед собой умирающего отца, и он тоже прошептал ей слабеющим голосом: «Не верь им!» Предстал перед ее глазами и преданный друг, посвятивший свою жизнь спасению христиан и евреев, стремящийся связать их судьбы и освободить человечество от зла, и из его груди тоже вырвался крик: «Не верь им, Мария! Все было как раз наоборот и с тем еще добавлением, что вырезавшие из нашего сердца мясо не боялись при этом пролить несколько капель крови!»
Эти мысли и чувства, эти образы до такой степени заполнили душу Марии, что она не восприняла последнего действия и как во сне села в карету королевы, с трудом отвечая на вопросы Елизаветы. Но та была достаточно хитра для того, чтобы слишком приставать к девушке, и находила более полезным для своего плана сперва дать улечься ее сердечному волнению. Елизавета была уверена, что уже почти достигла своей цели, что она вселила в Марию такое сильное отвращение к ее соплеменникам, показанных в столь неприглядном свете, какое отобьет у нее охоту снова иметь с ними хоть малейшее дело и родит желание отдать руку герцогу Девонширскому.
Но королева ошибалась. Правда, яркая краска стыда покрывала щеки Марии Нуньес, но то был стыд не за своих соплеменников, а за то, в каком безобразном свете выставили их в этой пьесе. Ведь такими испорченными, ужасными людьми считали их, следовательно, теперь все эти зрители – мужчины и дамы, господа и слуги, – и Марии Нуньес казалось, что и на нее обрушилась часть этого позора. Слезы негодования текли из ее прекрасных глаз, смывая румяна со щек. Она чувствовала себя одинокой, покинутой, больной. Она удалилась в свои комнаты, не пожелала никого принимать, отказывалась от всякого участия в придворных церемониях и празднествах. Мысли ее уносились в уединенную долину на берегу Таго, к родителям, к Тирадо. Теперь она упрекала себя в том, что так увлеклась лестью двора и его шумными развлечениями. Наступившее горькое разочарование представлялось ей заслуженным наказанием, и она мысленно целовала отеческую руку, вовремя пославшую его. Даже от своего брата Мануэля, время от времени навещавшего ее во дворце и усердно знакомившегося со всеми подробностями и особенностями лондонской жизни, она скрыла состояние своей души и объяснила происшедшую в ней перемену физическим недомоганием.
Среди этих волнений и скорбей она получила письмо от Тирадо, к которому было приложено и письмо ее матери. Как утешил ее этот сюрприз! Какой радостный крик вырвался из ее груди в ту минуту, когда она дрожащей рукой схватила эти послания! Они были присланы с оказией на одном из кораблей, которые с богатой добычей отправил на родину сэр Френсис Дрейк.
VI
Как ни неприятно было Тирадо уезжать из Лондона и покидать место, где, как ему было известно, предстояло теперь поселиться Марии, он все-таки охотно подчинился высшей воле, повелевавшей ему продолжать дело всей его жизни. С восторгом встреченный своими товарищами, почувствовав себя при этом на яхте, как дома, он по получении писем от королевы немедленно поднял якорь и пошел вниз по Темзе, чтобы присоединиться к флотилии сэра Дрейка. Как отрадно было ему на крепком, влажном воздухе после заточения в душных стенах Тауэра!
Храбрый и воинственный Дрейк тотчас отправился в путь и, выйдя в открытое море, распечатал пакет с инструкциями королевы. В них ему повелевалось плыть с шестью маленькими судами, к которым добавлялась яхта Тирадо, к берегам Португалии и Испании, там разузнать все, что удастся, о вооружении Филиппа и уничтожить или конфисковать все испанские военные корабли и боевые припасы на них, какие могут встретиться. Для выполнения такого задания невозможно было найти человека более подходящего, более способного, чем сэр Дрейк. Его личная смелость, маневренность его судов, ловкость и смекалка его матросов делали эту маленькую флотилию страшной для любого противника. Проницательным взглядом он усмотрел в Тирадо прекрасное орудие исполнения своих замыслов и сразу стал относиться к этому человеку с безусловным доверием. Посоветовавшись с ним, он обогнул португальский берег по широкой дуге, чтобы нанести первый удар по Кадису, и добраться туда прежде, чем там получат какое-либо известие о его прибытии в эти воды. Испанские суда, с которыми они встретились на своем пути, были ими уничтожены.