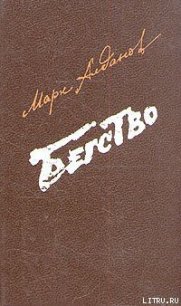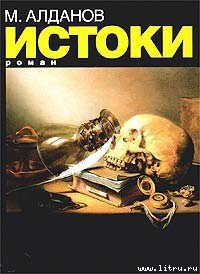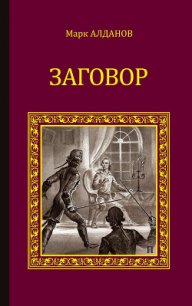Самоубийство - Алданов Марк Александрович (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные .TXT) 📗
Ему надо было еще поработать перед съездом, выправить приготовленные им проекты резолюций; но бумаги были в чемодане, жена продолжала занимать столик. Он с досадой взял другой номер журнала, с более свежей обложкой. На ней ему опять бросилось в глаза слово «Королева». — «Третья!.. Нет, это совсем не то!» — радостно подумал он. Толстая дама в светлом платье, с широкой совершенно плоской шляпой стояла под руку с опиравшимся на саблю коренастым усатым военным. Это были королева Драга и король Александр, совсем недавно убитые в Белграде. Позади них почтительно держалась свита. Фотография была снята за несколько дней до убийства. «Весь мир содрогнулся от ужаса, узнав о трагической кончине короля Александра и королевы Драги. Только сербы обрадовались этому убийству»… В свите были и люди, погибшие 11-го июня с королем, и люди, принимавшие участие в убийстве. «Это так, это как водится… Все как на подбор, морды тупые и гордые, все опираются на саблю, как он». В краткой статье сообщалось, что темной ночью десятки офицеров ворвались в конак, вышибли топором двери, зачем-то бросили в первой комнате бомбу. От взрыва во дворце погасло электричество. При свете захваченных предусмотрительно огарков убийцы пробежали через ряд комнат, ворвались в спальню и там никого не нашли. «Полтора часа они по всему дворцу искали короля и королеву, заглядывали под диваны, все рубили топором и саблями. Александра и Драги не было! Наконец, первый адъютант короля, генерал Лазарь Петрович, указал им дверь в гардеробную комнату, где несчастные жертвы провели полтора часа в мучительной моральной агонии»…
Он разыскал на обложке Лазаря Петровича, «Ну, еще бы! На вид самый почтенный из всех, просто воплощение респектабельности! Такие и нужны.» Затем внимательно просмотрел фотографии, дело было интересное. Были комнаты с опрокинутыми, изрубленными стульями, длинный тяжелый топор, гардеробный шкап с отворенными дверцами, с торчавшими платьями, окно, из которого было выброшено на цветник тело Драги. — «Тяжело раненая королева вскочила с пола, рванулась к этому окну и закричала. Люди слышали только один крик, страшный, пронзительный крик! Убийцы бросились на нее». — «Так, так, тон гуманно-сочувственный, а дальше верно будут гадости об этой самой Драге», — подумал он и радостно засмеялся, убедившись, что угадал.
На другой фотографии был изображен конак (журнал видимо щеголял этим словом). Дворец был небольшой. «На Зимний не похож, да там и охрана не такая». Он не сочувствовал этим заговорщикам, которые убили одного короля, чтобы тотчас посадить на его место другого. Но многое в них ему нравилось, хотя социал-демократия не признавала террора. «Да, эти дали тон начавшемуся веку, а никак не то лондонское дурачье с кретином: рабочим. Не очень видно „заканчивается в истории период бурь“. Он бросил журнал и вернулся к своему плану действий на Съезде. Обдумывал, как шахматист, разные комбинации.
Лучше всего было бы, конечно, если б единоличным редактором «Искры» стал он, а в Центральный Комитет вошли, кроме него, еще три-четыре человека из его подручных. У него всегда были «окольничьи», — люди, называвшиеся так потому, что на церемониях находились около московских царей. Но он знал, что это на Съезде пройти не может. «Начнется вой: „диктатура!“. Буду, разумеется, отрицать, с тремоло в голосе, а ла Троцкий». Перебирал разных товарищей по Съезду. Почти все были люди незначительные. Многие были хорошие люди, но это не имело никакого значения. Моральными качествами людей он интересовался мало; вдобавок, так называемый хороший человек не очень отличался от так называемого дурного. В своих письмах (раз сам назвал их «бешеными») осыпал грубой бранью и врагов, и единомышленников, и полуединомышленников, и бывших единомышленников, Струве называл «Иудой», Чернова «скотиной», Радека «нахальным наглым дураком», Троцкого «шельмецом», «негодяем», «сим мерзавцем»; «подлейшим карьеристом»; говорил о «трусливой измене» Плеханова, о «поганеньком, дрянненьком и самодовольном лицемерии» Каутского, о «подлой трусости» своего друга Богданова, говорил даже о «подлостях» Мартова, недавно ближайшего из друзей; его в душе до конца жизни считал благородным человеком и даже по-своему «любил». В совокупности большая часть социал-демократов составляла его партийное хозяйство, и к своему хозяйству он относился заботливо, как владелец к предприятию. Из людей вообще, когда либо живших он боготворил Карла Маркса, которого никогда не видел; писал, что в Маркса влюблен и ни одного худого слова о нем спокойно не выносит. Позднее в Петербурге говорили, будто он «обожает» Максима Горького, — бывший Иегудиил Хламида очень этим гордился. Действительно, в своих письмах Ленин не называл его ни негодяем, ни мерзавцем: назвал только «теленком». Как «политического деятеля» ни в грош его не ставил. Книги же его хвалил, хотя и без горячности. Как-то в разговоре с ним, «прищурив глаза» (повидимому, насмехаясь над творцом литературных босяков), восторгался Львом Толстым: «Вот это, батенька, художник! И знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было».
Разумеется, главную свою задачу на Съезде он видел в том, чтобы стать хозяином партии. Соперников, в сущности, не было. «Плеханов быть главой партии не может. Он примадонна, слишком тщеславен, слишком rechthaberisch, всего боится и во всем колеблется. Пусть открывает Съезд, это с полным нашим удовольствием. Будет стоять на трибуне в длиннополом наряде, конечно, со скрещенными ручками, у него всегда скрещенные ручки, не то Наполеон, не то Чаадаев, — ох, надоело. Будет сыпать цитатами; и тебе Дидро, и тебе Ламеттри, и тебе Герцен». Никак не мог быть соперником и Мартов. «Слишком щепетилен, слишком нервен, вечно волнуется так, точно сейчас упадет в обморок, разве вожди бывают такие!» Об Аксельроде или Засулич и говорить серьезно не приходилось. В последнее время в партии начал выдвигаться молодой эмигрант Лев Бронштейн, обычно подписывавшийся «Н. Троцкий». В обычае было менять не только фамилии, но и имена. Так было и в литературе. Алексей Пешков уже прогремел в России под псевдонимом Максима Горького. Троцкий хлестко писал, прекрасно говорил, бросал чеканные восклицания не хуже, чем Плеханов, и явно старался выйти в вожди; однако у него не было армии, хотя бы полагавшегося минимума из трех-четырех человек. Его все терпеть не могли; от него не просто веяло тщеславием, как от Плеханова: он был весь воплощенное тщеславие. «Мартов ему покровительствует и хочет провести его в Феклу. Никогда не пройдет. Георгий Валентинович наложит вето, уж он-то его совершенно не выносит. И мне надоел со своим мефистофельским видом. Этот вид очень культивирует, особенно когда при деньжатах. А когда их нет, тотчас впадает в тоску»…
— Кончила! — радостно объявила Надежда Константиновна. — Теперь будем пить чай!
— Вот и хорошо.
Она достала чайник, который всегда возила с собой по разным странам, взглянула на мужа и на цыпочках вышла из комнаты. Он продолжал думать о Съезде. Настоящая борьба должна была произойти лишь в конце, при обсуждении устава, при выборах редакции и Центрального Комитета. Знал, что до того депрессия у него совершенно пройдет. Обычно ей на смену приходил период необычайной, кипучей деятельности. В сотый раз подсчитывал соотношение голосов. Ему было известно, что многие социал-демократы в России с неудовольствием и с насмешками относятся к тому, что называли «эмигрантской склокой», «сварой», «грызней». Этих товарищей он считал уже совершенными дураками: они просто ничего не понимали. Действительно вся его жизнь в эмиграции была оплошной «склокой». Ею заполнены и многочисленные темы его по форме скучнейших произведений (у него не было литературного дарования). Но, быть может, он — и только он — уже тогда понимал, что в этой склоке зародыш больших исторических явлений: были две партии, а для революции ему нужна была одна, — разумеется под его единоличной и неограниченной властью: партия окольничьих.
— Разрешили вскипятить воду и дали чашки, — сказала Крупская, вернувшись с подносом. — Тут в Бельгии тоже пьют чай в чашках! Их стаканы от кипятку и полопались бы. Ну, посмотрим твои покупки. Верно переплатил? И, пожалуйста, не сердись, Володя, что я не успела зашифровать в Женеве. Это моя вина. Ты не сердишься?