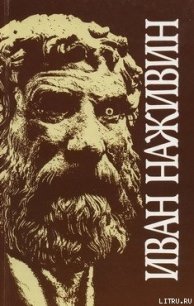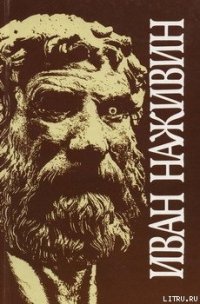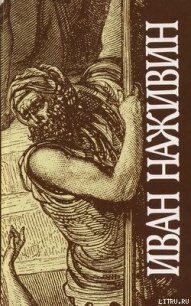Глаголют стяги - Наживин Иван Федорович (серия книг TXT) 📗
Среди забот этих и дел великих и праздников не забывал князь своей Оленушки и потому «повеле всякому нищему и убогому приходити на двор княж и взимати всякую потребу, питьё и яденье и от скотьниц — кунами (от ключниц деньгами). Строи же и сё, рек: яко немощнии и больнии не могут долести двора моего, повеле пристроити кола (телеги), и вскладаше хлебы, мяса, рыбы, овощь разноличный, мёд в бчелках, а в другых квас, возити по городу, въпрашающим: кде больний и нищ, не могы ходити? Тем раздаваху на потребу…»
И когда видел он радость нищеты киевской, на голубые, масленые очи его выступали слезы и ещё ярче, ещё теплее поминал он свою черничку милую. Княгини же своей он не любил: она была и душой и телом чистый вот сухарь, а князь Володимир больше всего на свете благодушество любил. Но он стыдился этого своего нехристианского чувства к своей «водимой» и всячески скрывал его [12].
XXXIV. НОВЫЙ КУРГАН
Летят стрелы каленыя, гримлют слабли о шеломы, трещат копиа харалужныя и глаголят стязи в поле незнаеме…
Русская Церковь быстро стала обзаводиться собственными святыми. Она завела даже праздники греческим святыням, не существовавшие у самих греков: каши маслом не испортишь. Очень ратовали попики против игрищ поганьских и скакания и тех, кто сказки сказывает небылые. И хотя и дома дела им было по горло, они начинали уже восставать и против латины… Народ весьма не любил батюшек и при встрече с ними торопился спрятаться в конопель или хотя бы даже и в крапиву. «Аще кто узрящеть попа, чернца или черницю, то возвращают ся вспять, — упрекали батюшки паству свою и вопрошали: — Не поганьски ли то творим?» Но пастве было безразлично, поганьски или не поганьски, — только бы подальше…
Володимир не только не трогал инородцев — нельзя же было поднять против себя всех сразу, — но даже и к Господину Великому Новгороду приступить с новой верой сразу не решался: буйные озорники могли натворить больших дел и увлечь, пожалуй, за собой и всю Русь. Вообще «встань великая в людех» проявлялась тогда повсеместно. В особенности упорно и кроваво сопротивлялись радимичи и вятичи. И если хоромы пискупов приходилось ставить всегда в городках, то есть за стенами, которые защищали бы их от паствы, то, с другой стороны, стали всё чаще и чаще пропадать без вести и волхвы непокорные. Жертвы многие падали с обеих сторон: мученики старой, дедовской, веры и мученики, большею частью подневольные, веры новой, которую они, увы, и сами путём узнать ещё не успели.
И одним из первых таких жертв в смуте великой пал у дреговичей Варяжко, ушедший за Оленушкой в Туров. Она зажгла его своей верой. Вера эта для него совсем не была верой грецкой, христианской, — он видел, что делали пискупы и попы, — а была и осталась верой Оленушки, у ног которой сложил он в жертву-жаризну, жертву всесожжения, всю свою молодую жизнь. Вокруг Оленушки и в Турове очень скоро собрались все страдающие и обременённые, а он, зажжённый ею, ушёл на проповедь её веры в бесконечные болота и леса дреговичей, где по берегам тихих рек рассыпались редкие, убогие деревеньки, и скоро погиб там под ножами разъярённых лесовиков, защищавших своих лесных богов… С большим трудом только удалось Оленушке вывезти оттуда бренные останки своего друга. И на костях его она поставила вскоре святую обитель…
Тревожно, сумрачно, кроваво, нехорошо стало на Руси: слова любви, которые белыми лилиями расцвели по берегам Галилейского озера, пройдя через руки злых византийских колдунов, превращались тут, в лесах и степях молодой Руси, в бессильных, но злых нетопырей. Церкви множились, но часто в них оказывались старые, полинявшие боги: Перун стал Илией Пророком, утратив, однако, всю свою старую красу и размах, Велес превратился в святого Василия, скотьего бога, а местами в совершенно чуждого Егория с копьём на коне. И часто, отмолившись новым богам, двоеверы шли под овин молиться богу-огню, Симаргле, сыну великого Сварога, или к ключу-студенцу и ставили по-прежнему хлебцы домовому хозяину и Мокоши пресветлой, и обвешивали дуплину столетнюю полотенцами шитыми для берегинь-русалок. И часто какой-нибудь хрещеный, завернув плакун-траву в плат чистый, шёл в церковь и, став у алтаря, бормотал: «Плакун, плакун, плакал ты много, а выплакал мало. Не катись твои слёзы по чисту полю, не разносись твой вой по синю морю — будь ты страшен бесам, полубесам и старым ведьмам киевским. А не дадут они тебе сокровища, утопи их в слезах, а убегут от твоего позорища, замкни их в ямы преисподние. Будь же слово моё при тебе крепко и твёрдо во веки веков…»
Хмурились люди. Но в особенности хмур был Муромец. В полюдье с князем он теперь не ездил, ибо теперь не только дань собирала дружина, но и крестила страдальников с проклинательством и кровопролитием великим. Муромцу было это не по душе, и он предпочитал беречи стольный город. Нелюбье между ним и князем всё увеличивалось. Богатырю казалось, что всем теперь верховодит из своего терема царевна заморская, на корню засохшая, и, подгуляв, говорил Муромец:
— Не скот во скотех коза, а не зверь во зверех ёж, не рыба в рыбах рак, не птица в птицах нетопырь — не муж в мужех, кем своя жена владает…
Он пробовал, и не раз, упросить Володимира не давать попам своим терзать Русь, но бесплодно, и, махнув рукой, он на своём мужицком наречии говорил:
— Коли пожрёт синица орла, коли камение восплывет по воде, коли свинья почнет на белку лаяти, тогда безумнии уму научатся…
И скучно было богатырю в этой новой, расхлябанной жизни, и всё чаще и чаще пригубливал он и зелена вина, и медов старых, стоялых, а хлебнув, начинал иной раз и колобродить. И кричал он тогда во всю головушку, как вот ещё немного, и осерчает он и пустит стрелу калёную по золотым маковкам княжого терема, а то и в самого ли князя Володимира, а когда разбуянится больше, то сзывает к себе он всю голь кабацкую и обещает ей, что скоро сядет он князем в Киеве, а они, голь, у него боярами будут!..
И вдруг, на счастье Муромца, печенеги поднялись. С востока, из глухих степей заходила новая туча, новый народ там объявился, половцы, и под их давлением зашумели печенеги и волна их, поднявшись, забежала чуть не до Киева. Князь, бояре, старосты людские и попы о ту пору церковь Пречистой освящали, Десятинную, что Анастас выстроил, и за чашами зело усердствовали.
Володимир, нахлебавшись, как всегда, славу себе налаживал и, как всегда, путался:
старательно размахивая руками, дико выводил он.
— Пити!.. — грянула подгулявшая дружина.
Все вокруг загрохотало.
— Стой!.. Не лезь… — отмахнулся князь досадливо и, опять подняв руки, затянул:
И вдруг гром с неба: печенеги!.. Враз все отрезвели и бросились навстречу степнякам. Только Муромец один запоздал: он, пьяный, по Киеву шатался и похвалялся силушкой своей богатырской, и народ жадно слушал его и ждал от него большого дела…
Встреча русской рати с печенегами произошла под самым Василёвым, и, дивное дело, после первой же сшибки полки русские побежали, а князь Володимир даже под мост какой-то спрятался. И вот сидит он под мостом, трясётся, Пречистую себе на помощь призывает и вдруг слышит, с киевского берега по мосту копыта застучали. Оказалось, Муромец проспался, выехал за ратью, встретил на пути бегущую дружину и воев и — заворотил их:
— Не бери на себя такой страмоты, робятя, заворачивай!.. Ишь, г…. испужались… Заворачивай давай!..
Печенеги в лугах под Василёвым праздновали победу — пить они тоже горазды были, русской рати на волос не уступят — и, пьяные, орали песни воинственные, и буянили, и величались один перед другим. И вдруг из-за Василёва ударили на них приободрившиеся россы. Степняки схватились, но, ловя перепуганных коней, упустили время, и русские конники буйным вихрем налетели на смятенный стан. Началась жестокая сеча, — бились насмерть, до последнего, зубом грызлись, голыми руками душили один другого. Печенежские кони, испуганные, носились зря по табору и только увеличивали смятение…
12
До сего даже дня мощи святого Спиридона Тримифунтского вместе с церковью, в которой они находятся, на острове Корфу, составляют собственность фамилии Булгарисов, которые они получили в приданое за девицею из фамилии Калохеретисов, принёсшей мощи из Константинополя после взятия его турками.